Годы без войны. Том 1
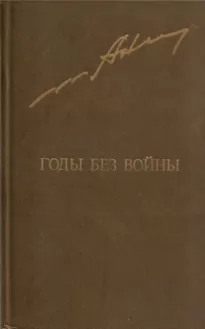
- Автор: Анатолий Ананьев
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 1982
Читать книгу "Годы без войны. Том 1"
VIII
Дорогомилины жили в кирпичном доме с высокими потолками и просторными комнатами, и квартира их была как бы тем местом, где уютно разместилось два мира: старый, все то, что напоминало о прошлом, — тяжелые ореховые кресла, серебряные подносы и блюда из кузнецовских и гарднеровских сервизов, и новый, то, что было теперь в ходу, — европейская мебель на прямых, жидких и тонких ножках, какою вот уже второе десятилетие заполняются квартиры людей самого разного достатка и общественного положения; это сожительство двух миров особенно бросалось в глаза, когда в широкой, как зал, прихожей, встречая гостей, появлялись сразу обе хозяйки дома: Ольга (жена Семена) в короткой и модной кожаной юбке, блестевшей и шуршавшей на ней, когда она подходила, и Вера Николаевна (мать Ольги), длинные шерстяные платья которой делали ее похожей на классную даму и вместе с тем странным образом молодили ее. Ольга обычно говорила: «А-а, прибыли» — и затем молча смотрела, как раздевались гости; Вера Николаевна же непременно добавляла «рады» и «пожалуйста» и, выдерживая гордую осанку, с прямой спиной мелким шагом направлялась в гостиную комнату.
До войны Вера Николаевна жила в Москве и занималась переводами с английского; обосновавшись затем в Пензе, она не порвала связей с издательствами, и, несмотря на то что она не являлась членом Союза писателей, переводы ее печатали охотно и она была известна в литературных кругах. Не видя ничего более перспективного для дочери, она и ее пристрастила к переводческому делу, которое приносило и душевное удовлетворение, и давало возможность жить так, как они жили теперь.
По вечерам в доме их всегда бывало людно, и хотя, кроме чая и конфет, ничего не подавалось к столу, засиживались по обыкновению до полуночи; лишь Вера Николаевна иногда не выдерживала до конца и уходила прежде, чем пустела гостиная комната; но утром поднималась вместе с Ольгою в одиннадцатом часу, и обе хозяйки сразу после завтрака отправлялись каждая в свою спальню, служившую одновременно и кабинетом, и там за приткнутыми к стенам столиками садились за переводы. Готовила же и убирала в квартире давно прижившаяся у них безотказная, все делавшая молча домработница Евдокия, у которой не было ни детей, ни мужа и которая рада была теплому углу и достатку. Она бывала незаметна днем и еще менее заметна вечером, как будто неловко ей было показываться на люди; и Ольгу и Веру Николаевну вполне устраивала эта ее нелюдимость; днем им нужна была тишина; но вечером, как только в передней раздавался первый звонок, все опять оживало и начинался тот новый круг приветствий, разговоров, суждений и мнений, в котором, как в зеркале, повторялось все, что было вчера. Говорили и спорили будто о важном, о народе, о земле, о политике, но привлекала всех не возможность решить что-то, а лишь возможность высказать несколько «вольных» мыслей. Гости приходили и тогда, когда Семен Дорогомилин бывал дома и когда не было его; вместе с Верой Николаевной и Ольгою они составляли мир, который был безбрежен в разговорах, но большей частью бессмыслен и узок в делах. Мир, каким жил Семен, напротив, был как будто ограничен кругом партийных забот и географическим кругом районов, куда он выезжал, но именно этот мир и был необъятен, потому что вбирал в себя сотни человеческих судеб и государственных дел, от выполнения которых зависело общее благополучие. Мир гостиной комнаты подавался всеми приходившими сюда как утонченный и сложный для понимания других, и Дорогомилин невольно поддерживал это мнение, потому что не было у него ни времени, ни желания вникать в него; он не вступал в споры, тогда как завсегдатаи его дома, считавшие, что они знают все, что касается жизни, решительно высказывали свои суждения по любому поводу. До пятьдесят третьего года (Ольга еще училась, и Семена Дорогомилина не было в доме Веры Николаевны) вся смелость высказываний их заключалась в том, что они обсуждали лишь значимость тех или иных происходивших в стране событий (какую превосходную степень приложить к ним) и ничего не отрицали и не затрагивали сути происходившего; после пятьдесят третьего года, хотя собирались все те же лица, разговоры носили уже иной характер, и смелость и вольность уже заключались в том, что они позволяли себе преувеличивать то, что прежде них было осуждено очередным партийным съездом и чему была дана определенная оценка. Они как бы забегали вперед, но чаще всего забегали не с той стороны, куда все двигалось, и не хотели затем признавать, что оказывались в безлюдном пространстве. Им хотелось деятельности, но вся деятельность их состояла лишь из разговоров, которые, как пыль, оседали на стенах и шторах гостиной комнаты; им доставляло счастье постоянно чувствовать себя обращенными против течения (как некоторым породам рыб, живущим в реках), но на самом деле они, как и большинство людей, лишь плыли по течению, только не по стрежню, а по тихим заводям вдоль берегов.
«Ты ничего не понимаешь», — возражала Ольга мужу, едва он начинал говорить, что все на свете, в том числе и искусство, должно служить одной и ясной цели.
«Ясных целей много, каждая эпоха выдвигает свои ясные цели, а искусство вечно», — тут же добавляла Вера Николаевна с тем видом, что она высказывала истину, известную каждому школьнику.
В этот-то сдвоенный семейный дорогомилинский мир и должен был теперь, после всех своих деревенских впечатлений, окунуться Сергей Иванович.
Мир этот для каждого начинался с прихожей: с цвета обоев, вида бронзовых с хрусталиками бра, висевших на стене, и блеска стекла в дверцах книжных шкафов, со всего того, что, рознясь и сочетаясь, сразу же окружало входившего атмосферой интимности и таинственности, какая затем не отпускала уже никого до конца вечера. Атмосфера эта не располагала к поспешности, и никто бы не мог с точностью определить, от чего она более происходила: оттого ли, что обои были густого вишневого цвета и при зажженных бра казались бархатистыми, или оттого, что по вишневому фону их был разбросан рисунок — трехпалые подсвечники со свечами, оттиснутые золотистой фольгой, и подсвечники, казалось, блестели медными гранями, а свечи горели, излучая тот самый тусклый свет, каким было заполнено все, или от книжных шкафов, которые были старинными, из красного дерева, и были до отказа набиты разными дорогими изданиями, но так ли, иначе ли, а даже привыкшие к дорогомилинскому дому старые знакомые Веры Николаевны и Ольги каждый раз, входя, как бы заново испытывали то воздействие, какое производили на всех обстановка и убранство прихожей. Напротив входной двери висело большое овальное зеркало в узорчатой черненой бронзовой оправе, в которое по утрам смотрелись хозяйки дома, а по вечерам — приходившие гости, а на полу перед зеркалом лежал огромный китайский ковер с еле заметным рисунком по центру; он был как будто несовместимого с обоями цвета — цвета зимнего морозного неба, но холодная голубизна его, дымкой плававшая над полом, лишь сильнее подчеркивала ту вишневую теплоту, какая гуще всего, казалось, была на уровне рук, часто оголенных у женщин, плеч, лиц; лица и домашних и приходивших, даже худые и болезненные, окрашенные этим теплым светом, выглядели оживленными и румяными, и это было приятно всем. В убранстве прихожей все видели утонченный вкус Веры Николаевны, тогда как от нее зависел только выбор обоев, а все остальное было случайным совпадением цвета и форм. Книжные шкафы достались ей по наследству и были привезены из Москвы; бронзовые с хрусталиками бра на стенах были те, какие только однажды появились в продаже, так что выбирать было не из чего; точно так же обстояло и с китайским ковром, который был приобретен не потому, что понравился небесный цвет его, а потому, что не имелось в магазине иного и лучшего. Но, однако, никто не видел, как покупалось и делалось все, а видели готовое, как была обставлена прихожая, и невольно относились с почтением к старшей хозяйке дома.
В гостиной комнате были точно такие же обои на стенах, как и в прихожей, и дополнялись тяжелыми, свисавшими от потолка шторами; шторы были более темного цвета и с разводами, напоминавшими рисунок дворцовой обивочной ткани; они лежали крупными волнами на окнах и особенно выигрывали, когда зажигалась люстра и когда матовый свет от ее миньонов, усиленный блеском хрустальных цепочек, падал на атласные гребни этих волн. В глубине комнаты, у стены, стояло белое пианино, тоже доставшееся Вере Николаевне по наследству; на нем не играли, потому что его уже нельзя было настроить, и оно стояло как украшение — белое на густом вишневом фоне, с медными ножками-лапами, упиравшимися в паркетный пол. Неподалеку от него и тоже служившие лишь украшением поднимались две высокие тумбы, похожие на греческие колонны; они были не из красного дерева, а только искусно выкрашенные под него, и были увенчаны небольшими фарфоровыми статуэтками гарднеровского еще, как утверждала Вера Николаевна, производства. Между пианино и этими колоннами, особенно, как считали все, украшавшими гостиную комнату, располагались диван, кресла и стулья, специально будто подобранные из гарнитуров разных времен; они выглядели неуклюже и неуместно (главное, стулья с прямыми и тонкими ножками), когда в гостиной никого не было, и свободно вписывались в общий салонный стиль, когда сходились гости и рассаживались на этих креслах и стульях. Центром всего был большой круглый стол с пепельницами и вазой из янтарного богемского стекла. Пока не подавали чай, стол был накрыт дорогою, все того же вишневого тона скатертью; но перед тем, как внести на серебряном подносе блюдца, чашки и ложечки, Евдокия застилала скатерть тонкою и прозрачною целлофановой пленкой.
Прихожая более смотрелась, когда в ней не было людей; гостиная же комната, напротив, производила впечатление лишь тогда, когда все завсегдатаи дома были в сборе и платья, костюмы и лица их неторопливо перемещались на фоне вишневых стен и штор, освещенных горевшею под потолком люстрой.
У многих приходивших сюда были свои излюбленные места. Евгений Тимофеевич Казанцев, самый старый знакомый дома (ему было так же, как и Вере Николаевне, под семьдесят), приходя, сразу же направлялся к тяжелому павловскому креслу, стоявшему возле пианино. Он считался известным в городе кинокритиком. Как он начинал в газете, не знал никто; но то, какое положение занимал теперь (он заведовал отделом, и рецензии его на новые фильмы регулярно появлялись на последней полосе), знали все, и это было самым большим удовлетворением для него. Маленькими бесцветными глазами из глубины кресла он смотрел на всех, казалось, с тем спокойствием, словно никогда и ничто на свете не волновало его. Ему нравилось в жизни все, что было гладко и не имело шероховатостей, как стоявшее возле кресла пианино, на которое он клал руку и полированную поверхность которого ему всегда приятно было чувствовать под пальцами, но, несмотря на эту очевидную как будто уравновешенность и несмотря на то, что он никогда и ни на кого не повышал голоса, у всех было мнение о нем как о желчном и ершистом человеке. Он старел, менялся в лице, как стареют и меняются все люди, и прежде упругие наплывы кожи на подбородке, выпиравшие за воротник рубашки, давно уже стали дряблыми складками, но не менялись привычки и убеждения этого ссыхавшегося старика, и так же, как он был молчалив и самонадеян в молодости, еще более молчалив и самонадеян был теперь, и морщился, и не терпел возражений. Он пользовался в гостиной тем правом старшинства (после Веры Николаевны), какое шло не от положения и седин, а от характера, от того самого молчания, каким он подавлял всех.





