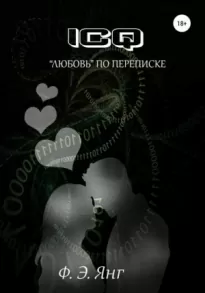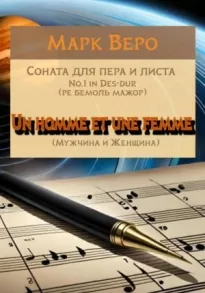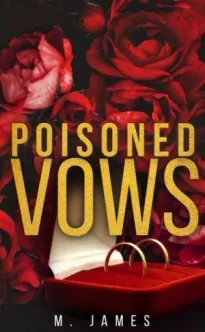Свое место

- Автор: Анни Эрно
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Свое место"
Поскольку моя учительница меня «исправляла», я тоже решила исправить папу и объявила ему, что «ложить» или «сколько время» не говорят. Он пришел в ярость. В другой раз: «Как же мне не ошибаться, если вы постоянно говорите неправильно!» Я плакала. Он расстраивался. Всё, что связано с языком, закрепилось в моей памяти как причина обид и болезненных придирок, даже в большей степени, чем деньги.
Он был весельчак.
Перешучивался с покупателями, а те были рады похохотать. Завуалированные непристойности. Похабщина. Ирония неведома. Радио он настраивал на песни и развлекательные программы. Всегда был готов сводить меня в цирк, на дурацкий фильм или на фейерверк. На ярмарках мы ходили в пещеру ужасов, катались на карусели, глазели на самую толстую женщину в мире и на лилипута.
Он ни разу не бывал в музее. Мог остановиться, чтобы полюбоваться прекрасным садом, деревьями в цвету или пчелиным ульем, заглядывался на девушек в теле. Восхищался огромными зданиями, большими современными конструкциями (подвесной Танкарвильский мост). Любил цирковую музыку и ездить на машине за город – по крайней мере, когда он глядел на поля и рощи или слушал балаганный оркестр, то выглядел счастливым. Обсуждать, что мы чувствуем при звуках мелодии или любуясь пейзажем, у нас было не принято. Когда в И. я стала общаться с девушками из мелкобуржуазных семей, они первым делом спрашивали о моих вкусах: какую музыку я люблю – джаз или классику, чьи фильмы предпочитаю – Тати или Рене Клера. Этого было достаточно, чтобы понять: я вступаю в совсем другой мир.
Как-то летом он отвез меня на море, к своей семье. Ходил там в сандалиях на босу ногу, останавливался у входов в землянки, пил на террасах пиво, а я – газировку. По просьбе моей тети убил курицу: зажал ее между ног, воткнул в клюв ножницы, и густая кровь закапала на пол подвала. Они подолгу сидели за столом, вспоминали войну, родителей, передавали друг другу фотографии над пустыми чашками. Чего уж, помереть еще успеем!
Возможно, в глубине души – стремление ничего не принимать близко к сердцу, что бы ни происходило. Он придумывал себе занятия, чтобы отвлекаться от лавки. Разводил кур и кроликов, строил сараи и гараж. Часто менял планировку двора, уборная и курятник перемещались три раза. Вечное желание сносить и строить заново.
Мама: «А чего вы хотите, он же из деревни».
Он знал птиц по голосам и каждый вечер определял по небу, какая будет погода: если закат красный – холодно и сухо; если луна в воде, то есть тонет в облаках, – дождь и ветер. После обеда он всегда ходил в свой аккуратный садик. Неухоженный огород с запущенными грядками был признаком нечистоплотности, всё равно что не следить за собой или пить лишку. Это означало, что ты потерял счет времени – когда сажать, – и страх перед тем, что подумают другие. Самые отъявленные пьяницы искупали грехи, выращивая между запоями прекрасный сад. Если у папы не всходил лук-порей или что-то еще, он был в отчаянии. В конце дня он выливал ночное ведро в компостную яму и приходил в ярость, если обнаруживал на дне ведра дырявые чулки или исписанные ручки, которые я выбросила туда, поленившись спуститься к мусорному баку.
За едой он пользовался исключительно своим складным ножом. Резал хлеб на маленькие кубики, раскладывал рядом с тарелкой и накалывал на них кусочки сыра и колбасы, подтирал ими соус. Он очень огорчался, если видел, что я чего-то не доела. Его собственную тарелку можно было не мыть. После еды он вытирал нож о комбинезон. Если ели селедку, то втыкал его в землю, чтобы исчез запах. До конца пятидесятых он ел по утрам суп, потом начал пить кофе с молоком, но неохотно, словно уступал какой-то женской блажи. Он пил его с ложки, шумно втягивая, как бульон. В пять часов готовил себе перекус – яйца, редис, печеные яблоки, – а вечером довольствовался похлебкой. Терпеть не мог майонез, сложные соусы и пирожные.
Спал он всегда в рубашке и нательной майке. Когда брился – трижды в неделю, над кухонной раковиной, на которую ставил зеркало, – то расстегивал ворот рубашки, и мне было видно его белоснежную кожу на груди. После войны ванные комнаты (признак богатства) всё шире входили в обиход, и мама оборудовала такую на втором этаже. Но папа никогда ею не пользовался и по-прежнему умывался на кухне.
Зимой он смачно харкал и сморкался во дворе.
Я могла бы изобразить этот портрет и раньше, в школьном сочинении, но все эти подробности были под запретом. Как-то в четвертом классе одна девочка так отменно чихнула, что у нее улетела тетрадь. Учительница, писавшая на доске, обернулась: «Какие изысканные манеры!»
В И. ни один представитель среднего класса, ни один торговец из центра, ни один клерк не хочет выглядеть так, словно он «вылез из своей глуши». Если тебя принимают за деревенщину, значит, ты не развиваешься, отстаешь от времени – в одежде, в языке, в повадках. Любимый анекдот: фермер приезжает в город к сыну, садится перед работающей стиральной машиной и задумчиво смотрит, как за прозрачной дверцей крутится белье. Потом поднимается, качает головой и говорит невестке: «Как хотите, но телевизорам еще есть куда расти».
Но никто в И. особенно не следил за манерами крупных фермеров, которые приезжали на рынок на «фордах Ведетт», потом на «двухлошадных», а теперь – на «четырехлошадных» «ситроенах». Хуже всего было выглядеть и вести себя как деревенщина, если ты не она.
Папа с мамой всегда общались в тоне упрека, даже когда проявляли заботу. «Пойдешь на улицу – шарф надень!» или «Да присядь же хоть на минуту!», будто ругаются. Они вечно спорили, кто потерял счет от поставщика лимонада, кто забыл выключить свет в подвале. Мама кричала громче, потому что ее всё доводило до белого каления: задержки в поставках, слишком горячий фен в парикмахерской, месячные и покупатели. Порой: «Торговец из тебя никудышный!» (то есть «Лучше б ты оставался рабочим»). Оскорбленный папа теряет обычное самообладание: «СТЕРВА! Надо было бросать тебя, когда ты на фабрике спину гнула!» Регулярный обмен любезностями:
Ничтожество! – Чокнутая!
Взглянуть жалко! – Старая дрянь!
И т. д. Всё не всерьез.
Друг с другом мы умели разговаривать только сварливым тоном. Учтивый приберегался для чужих. Эта привычка укоренилась в нас так глубоко, что когда папа, старательно беседующий с кем-нибудь как положено, оборачивался, чтобы запретить мне взбираться на груду камней, то вдруг переходил на грубый тон, деревенский акцент и нормандские ругательства, чем тут же портил впечатление, которое хотел произвести. Он так и не научился делать мне замечания приличным способом, а угрозу подзатыльника в мягкой форме я бы всерьез не восприняла.
Вежливость между родителями и детьми долгое время оставалась для меня загадкой. А еще мне понадобились годы, чтобы «постичь», почему воспитанные люди вкладывают в обычное приветствие столько любезности. Мне было стыдно, я не заслуживала такого внимания, даже подозревала какую-то особую симпатию в свой адрес. А потом поняла, что все эти вопросы, заданные с видом глубокой заинтересованности, все эти улыбки значат не больше, чем умение есть с закрытым ртом и бесшумно сморкаться.
Сейчас мне тем более важно расшифровывать эти детали, потому что раньше я пренебрегала ими как чем-то незначительным. Только какое-то позорное воспоминание могло заставить меня сохранить их в памяти. Я подчинилась воле мира, в котором живу и который пытается заставить нас забыть тот, низший мир, как что-то вульгарное.
Вечером, когда я делала на кухне уроки, он листал мои учебники, особенно по истории, географии и естественным наукам. Ему нравилось, когда я задавала ему каверзные вопросы. Однажды он потребовал, чтобы я устроила ему диктант – хотел доказать, что пишет без ошибок. Он никогда не помнил, в каком я классе, и говорил: «Она у мадемуазель Как-Ее-Там». Школа – религиозное заведение, куда меня отдала мама, – представлялась ему каким-то ужасным миром, как остров Лапута в «Путешествиях Гулливера», который парит надо мной и следит за каждым моим словом и шагом. «Ну что за умница! Вот бы учительница тебя видела!» или «Вот пожалуюсь на тебя учительнице, она-то уж заставит тебя слушаться!»
Он всегда говорил «твоя школа» и произносил «пан-си-он», «почте-е-енная сестра-а-а (имя директрисы)», растягивая слоги, сквозь зубы, подчеркнуто уважительно, как будто нормальное произношение этих слов подразумевало некую фамильярность с закрытым местом, к которому они относятся, а на это он претендовать не смел. На школьные праздники он не приходил, даже когда я играла в спектаклях. Мама негодовала: Ну вот почему бы тебе не пойти? А он: «Ты же знаешь, я на всё такое не хожу».
Часто серьезно, почти драматично: «Слушай там хорошенько, в своей школе!» Страх вдруг потерять этот странный подарок судьбы – мои хорошие оценки. Каждое удачное сочинение, позже каждый экзамен, – и то хорошо, надежда, что я буду лучше, чем он.
В какой момент эта мечта вытеснила его собственную, однажды озвученную – открыть прекрасное кафе в центре города, с террасой, случайными посетителями и кофемашиной на прилавке? Денег было мало, а снова начинать всё с нуля страшно. Он отступился. А чего вы хотите.
Он навсегда останется в разделенном надвое мире мелкого лавочника. С одной стороны – хорошие, те, кто ходят к нему; с другой – плохие (и их больше), которые закупаются у других, в восстановленных магазинах в центре. Вдобавок к ним – правительство: оно, очевидно, хочет нашей смерти, так как поддерживает больших торгашей. Даже внутри хороших есть разделение на тех хороших, которые покупают у нас всё, и плохих: эти оскорбляют нас тем, что заходят за бутылкой масла, которую забыли купить в городе. И даже с самыми хорошими надо быть настороже, они ведь уверены, что их все обманывают, а потому в любой момент нас предадут. Весь мир в сговоре. Ненависть и раболепство, ненависть к своему раболепству. В глубине души – мечта любого торговца: быть единственным во всем городе. Мы ходили за хлебом за километр от дома, потому что местный булочник ничего у нас не покупал.
Папа голосовал за Пужада[6], словно делал хорошую ставку, но без особых надежд – считал его «болтуном».
При этом несчастным он не был. В кафе всегда тепло, вереница постоянных посетителей с семи утра до девяти вечера, ритуальные приветствия и ответы: «Всем здравствовать! – И тебе не хворать». Разговоры, дожди, болезни, смерти, безработица, засуха. Констатация фактов, рефрен банальностей и для разнообразия – бородатые шуточки: у них ж опыта больше; таких как ты – днем с огнем, ночью разогнем. Вытряхнуть пепельницу, смахнуть со стола, протереть стул.
Между посетителями – подменить маму в бакалее, неохотно: он предпочитал кафе, а может, и ничего не предпочитал, кроме своего огорода и сараев, которые мог строить, как ему вздумается. Запах цветущей бирючины в конце весны, звонкий собачий лай в ноябре, если слышно шум поездов – значит, холодает… Да, наверное, это и имеют в виду те, кто во главе, кто всем заправляет, кто пишет статьи в газетах, говоря: «Эти люди всё равно счастливы».