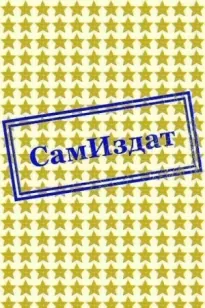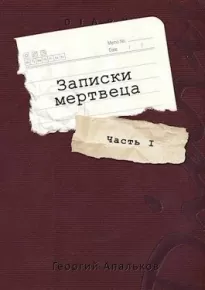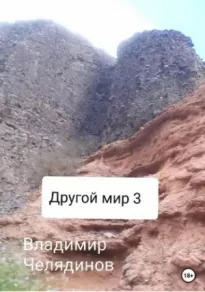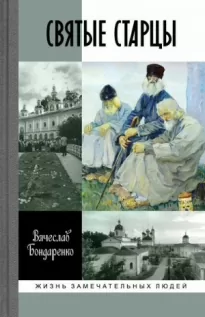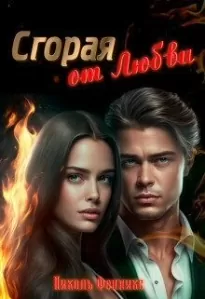Золото плавней
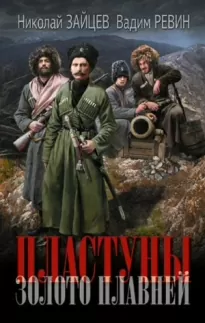
- Автор: Николай Зайцев
- Жанр: Историческая проза / Исторические приключения
- Дата выхода: 2024
Читать книгу "Золото плавней"
8.1
«Починаэ развыдняться», – сказал сам себе сотник Мыкола Билый, мотнув головой из стороны в сторону, как будто стряхивая остатки дремоты. Сумрак отходил, уступал, и предметы вокруг вырисовывались четче.
– Василь! – слегка толкнул он спящего приказного Рудя. Казак замычал, дергая ногой, лягая кого-то или спеша по своим делам даже во сне. – Васыль! – чуть громче повторил Билый. – Проспался?
Рудь, вздрогнув телом, открыл глаза:
– Дядько Мыкола. Я ж чуток. Зовсим нэ спав. Тильки очи прикрыв, – с нотками оправдания в голосе, сказал приказный, сонно хлопая глазами.
– Та ладно! Нэ прыбрэхувай. Спав як вбытый, – в шутку подначил Василя Билый. – Скоро развыдняться почнет. Нам к тому времени трэба к аулу спуститься. Черкеса врасплох возьмем – полдела выиграем. Потому как не у себя дома.
Василь стряхнул с себя остатки сна, мотнув чубатой головой. Снова надел папаху на свою буйную головушку, встал, сделал несколько шагов, разминая затекшие в ичигах ноги, потянулся и провернул руками вперед, словно шашкой вострой ворога кострычнул.
«Махнул ручищами, будто ту свыню гэпнул, – усмехнувшись в густые усы, подумал сотник Мыкола Билый. – Гарный хлопец, та и казак справжний. Вот тильки витер в голове порой такой, шо ногам покою нэ дае».
Василя станичники любили. Добрым был казаком. С подпарубка рос без батьки. Не вернулся отец его, Федор, с очередного похода. Когда через реку переправлялись, погрузили казаки свое оружие и седла, как водится, на салы. Когда до берега добрались, салы Федора без него к берегу прибило. Плавал Федор хорошо, лучше него никто в станице навымашки не мог плыть. Так и не нашли его тела казаки. Без вести пропавшим считали в станице. Нона, жена его, убивалась по нему первое время. Молитвой да слезами рану душевную затянула. Но не приняла того, что Федора в живых нет. Дед Трохим неделю первую после известия трагичного с хаты носа не показывал. В красном куте лампадку жег, святому Егорию молился, святому Миколе Чудотворцу. Прошло время, Василь из подпарубка в казака вышел, но дед Трохим до сих пор на окраину станицы выходит, сына Федора выглядывает. «Не убит – значит, живой», – говорил дед Трохим станичникам. И все выглядывал в даль, не покажется ли на степном шляхе сын его Федор, отец Василя. А Василь тем временем мужал, казаком становился. Воспитывали внука дед Трохим и отец крестный Иван Колбаса. Кому как не крестному нести ответственность за крестника? Уж так повелось у казаков, что если батьки нет, то крестный вместо него остается. Не было у казаков чужих детей. Все малые станичные своими были для каждой семьи. Так и Василь рос станичным любимцем. Но нос не задирал, коныкы нэ вэкэдал. Трудолюбивым был, да и в воинском искусстве преуспел. В рудевскую породу был. Рослый, двухметровый молодец, косая сажень в плечах, кулаки что те молоты. Как-то на спор бычка двухлетку с одного удара свалил. Дед Трохим в нем души не чаял. Себя видел в нем. Да и внук деда любил. Все было в Василе справжно. Одна беда – девок любил. За то ему не раз от деда попадало.
– Ты, Васыль, на одну глянэ, а всих тэбэ жалко! Доведешь себя до оказии, бисова душа! – стыдил внука дед. А тому как будто вожжа под хвост коню. По молодости тело в узде держать не умел, да и не хотел особо.
Догулялся лихой казак. Хохлушку из наемных спортил, на радостях еще и на грудь добрую макитэрку чачи принял. Хохлы-гамселы решили Василя проучить. Подстерегли его, когда тот навеселе с шинка выходил. Оказалось – на свою беду. Василь им тумаков надавал, те с гулями недели две ходили. Отделал их Василь знатно. Сапатки набыл до не хочу. Домой дошел, но, не заходя в хату, прошел на баз и в копне сена уснул. Проснулся поутру от холода. То дед Трохим ведром ледяной воды с крыницы окатил. И нагайкой пару раз огрел.
– Ты шо, паршивец, робишь! Хфамилию позорить?! Бисова душа. Гэть с глаз моих! – разозлился тогда дед Трохим не на шутку.
Хохлы ж как тень на плетень навели, свилогузничали, донесли на Василя атаману станичному. Тот долго разбираться не стал. Хохлам досталось за то, что кляузу написали. А Василю за проступок двадцать ударов батогами. Гузню полдня в воде отмачивал.
Пришло осознание того, что сделал. Перед дедом на коленях прощения выпрашивал.
– Бог простит, унучок! – сказал в сердцах дед Трохим. – Языком болтай, а рукам воли нэ давай! Сам согрешил, да и меня, старого, под монастырь подводишь?!
Дед Трохим отходчив. Простил внука за содеянное: «Умив гришыть, умий и каяця!»
Покаялся Василь. Перед станичниками покаялся. К отцу Иосифу на исповедь ходил. Камень с души упал. Но спокойствия не было. Чувствовал вину за собой и не знал, как это чувство в себе победить.
– Разчумался? – спросил Билый, когда Василь вновь подошел к нему.
– Так точно, господин сотник! – четко, по уставу ответил Василь, вытянувшись в струну.
– Добре. Буди казаков, Василь, – приказал Микола.
Василь исчез в темноте. Не прошло и четверти часа, как он докладывал Билому о выполнении приказа.
– Я еще к коневодам заглянул, ваш приказ передал, – неумело щелкнув задниками ичиг и вытягиваясь во фрунт, доложил Рудь.
– Экий ты кубаристый! Чай не на плацу, – подметил Билый. – Присядь. Пока казаки сбираются, потолкуем.
Василь, предвкушая тему разговора, принял серьезный вид. «Скорее всего, дядько Мыкола за мой проступок говорить станет», – мелькнула мысль. Василь присел, тяжело вздохнув и поправив папаху, виновато посмотрел на своего командира. Хоть и получил сполна и раскаялся, но вину за собой тяжкую чувствовал.
– Дядько Мыкола, нэ вэнуват я. Вони втроем мэня вбыть хотели, – попытавшись угадать тему разговора, выпалил Василь. – Я же их только отталкивал от себя. Вот те крест! Ну, может, кого случайно задел…
Билый посмотрел на него пристальным взглядом:
– Я нэ вынувата, и Гнат нэ вынуват – вынувата хата, шо впустила Гната? Так, чи ни? Эх, Василь, Василь, чужий стыд – смих, а свий – смэрть. Только не за то я хотел побалакать с тобой. – Билый слегка толкнул Василя в плечо. – За проступок свой ты уже покаялся. Хто помянэ, тому глаз долой.
Молодой казак немного успокоился: «Тады сотник распэкат не будэ».
– Василь, – нарушил его мысли Билый. – Ты в семье один хлопец. Традиции наши знаешь. Поэтому в бою из огня да в полымя не лезь. Меня держись. Лишний раз не высовывайся. Понял?
Внук деда Трохима погрустнел. Хотел в бою геройством блеснуть, доказать всем, что можно на него положиться, а теперь, выходит, за спину сотника прятаться?
– Понял, ваше бродь. Как не понять.
Билый заметил смену настроения приказного:
– Шо зкрывывся, як сэрэда на пьятныцю? А сгинешь, кто род продолжит? О мамке подумал? О деде Трохиме? Без ума казаку – сума, Васыль. Нэ журысь, моль одэжу йисть, а пичаль чоловика. Я деду твоему обещал приглядеть за тобой. В общем, Васыль, – это приказ. Наша доля – божья воля, – сказал как отрезал сотник, давая понять приказному, что разговор закончен.
Тем временем казаки, приведя себя в порядок на скорую руку, уже строились на небольшом колтычке.
Билый вышел перед строем. Осмотрел, насколько позволял предрассветный час, казаков.
– Здорово ночевали, станишные, – поздоровался.
– Слава богу, – дружно ответили казаки.
– Долго говорить не буду. На святое дело идем. Не чужое отбирать, свое возвращать. Недаром наши деды говорили: чужэ нэ займай, а свое нэ заграй. Отобьем охоту басурманам наших коней уводить да девок красть. На том предки наши стояли и нам велели. С нами Бог, станишные. – Речь сотника Миколы Билого была короткой, но емкой. До глубины души проникла она в каждого казака, стоявшего сейчас перед своим командиром. У каждого из стоявших был свой счет к черкесу. Не терпелось его предъявить.
– Браты, – вновь обратился Билый к станичникам, – теперь по существу. Аул, куда черкесы угнали наших коней, судя по тому, что рассказал салмач товарчиев, находится с другой стороны склона. Стекаем по склону, рассредоточиваясь в боевой порядок. Там пластаемся на подходе к аулу. Дальше побачим. Бог укажэ. Мы – пластуны. У нас вовча пасть и лисий хвист. Коневоды остаются здесь. Глядите в оба!
Кромка неба, цепляющаяся за каменные зубья скал, начала светлеть. Скоро взойдет дневное светило, озаряя все кругом своим светом.
«Для пластуна ночь – подруга. Нужно успеть атаковать аул, покуда не развыднялось», – подумал Билый и, повернувшись к своим станичникам, махнув рукой, сказал:
– Гайда! Вперед!
Словно стая степных кобчиков, плавно, равномерно двигаясь след в след, казаки начали спускаться.
Билый намеренно повел отряд резко вправо. Склон здесь был круче, что создавало некоторые трудности при передвижении. Но таким маневром они предотвращали возможную встречу со вчерашними пастухами. Она была нежелательна. Кто знает, что на уме у горца. Ведь только кунаку можно было доверять как себе.
У многих казаков были кунаки в горских аулах. Это была не только дань времени. Этого требовала система кавказского общежития, объединяющая многие горские племена и народности, к которым относились и казаки.
Продолжительное время соседствуя и взаимодействуя с кавказскими народами, казаки впитывали в свою культуру и быт новые черты, одновременно передавая часть черт своей культуры горцам. Наиболее сблизились с кавказскими племенами кубанские и терские казаки. Казаки и горцы, поддерживавшие куначеские отношения, были взаимно связаны долгом гостеприимства, и в каждой станице можно было встретить казачьи семьи, которые заводили себе друзей в горских аулах и называли друг друга кунаками. Они часто приезжали друг к другу в гости, дарили подарки, оказывали взаимную помощь во время сельскохозяйственных работ. Кубанские казаки куначились в основном с кабардинцами, кумыками. В Кумыках и Кабарде были лучшие оружейники, седельники, серебряки. Казаки водили с ними дружбу, принимали у себя горцев, так как знали их язык. Порой казаки давали детям кабардинские имена и прозвища, поскольку имели в Кабарде приятелей и кунаков. Бывало, что в семье станишника воспитывался сирота – ногаец, калмык или горец, которые, повзрослев, получали все казачьи права, становились, настоящими казаками, и за них могли выйти замуж девушки – казачки.
Гостеприимство и куначество в свое время стали той благодатной почвой, на которой зародились и получили развитие всестороннее взаимодействие и сотрудничество русского и кавказских народов, стали основой укрепления дружбы между ними. В период Кавказской войны куначество было одной из главных составляющих в постоянном поиске формулы компромисса. Многие представители кубанского и терского казачества братались с горцами и становились их кунаками, понимая, что дружба, взаимопонимание, уважение к иноплеменной культуре дают куда большие результаты, нежели ссоры и распри.
Кунак – это не просто друг, приятель, это – человек, не связанный узами кровного родства, но несущий обязанности близкого родственника. По отношению к кунаку отношения дружбы сохранялись на всю жизнь. В любых обстоятельствах такие друзья должны были помогать друг другу. Кунаки принимали взаимное участие в различных жизненных ситуациях: в свадьбе детей, строительстве дома, похоронах членов семьи, необходимости выплаты цены крови при примирении близкого родственника-убийцы с родом убитого, в возмещении ущерба, нанесенного стихийным бедствием, и других. Часто такая дружба передавалась из поколения в поколение. Семья, имевшая много кунаков, пользовалась уважением в селе, поэтому каждый по возможности старался иметь своего кунака в других селах, и особенно среди представителей соседних народов, в частности, казаков.