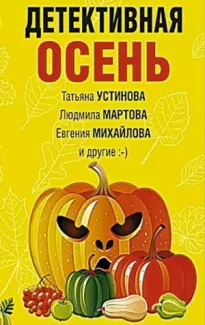Дневник о Чарноевиче

- Автор: Милош Црнянский
- Жанр: Классическая проза
- Дата выхода: 2018
Читать книгу "Дневник о Чарноевиче"
Вот так проходили утра. Я просыпался, но продолжал лежать, уперев глаза в потолок. Ел без аппетита и, позевывая, читал газету. Засмотрелся на церковный двор. Вокруг рта у меня были какие-то желтые пятна, по утрам я был отекший и некрасивый. Я видел старых женщин перед входом в церковь. Голова моя поникла, словно я был болен. Я видел только памятник на площади, перед церковью, с крестами и святыми.
Промокшая от дождя, приходила она, с руками, полными сластей, и быстро мне что-то рассказывала. Она знала обо всех пороках и всех супружеских изменах, о чьем-то имуществе и всех тайнах. Сидела рядом со мной и весело ела. Сиреневая вуаль, мешавшая ей, спадала как тень на ее улыбку. Иногда мелькал ее розовый влажный язык, которым она быстро облизывала сладкое. За обедом всегда были гости, а она весело им прислуживала, будто уже хозяйка. После обеда все осторожно переглядывались, не слышит ли их прислуга, и поднимали тосты за здоровье короля Петра.
А потом все лица сияли беззаботно. Потом пели и говорили о войне. Меня уже называли женихом. Потом все шли в трактир. Она меня провожала, и на кухне, за дверью, в коридоре, быстро подходила, целовала, дышала тяжело и повторяла: «Милый, еще, еще…» Я дергал головой от неловкости, а губам было больно от ее зубов. Меня это злило; напоминало мне об одной моей любовной истории, с горничной, когда я с матерью ездил на курорт; даже аромат ее платочка напоминал мне ту любовь. С каждым днем я все больше влюблялся. А она приходила все позже. В темноте, за тяжелыми килимами из Бачки, она целовала меня, несчастная из-за моей нерешительности. Я с тоской начинал ее обнимать, но ее страсть меня все больше душила. Она расплетала косу, хотя я тайком смахивал с лица эти тяжелые волосы, потому что я не мог под ними дышать. У них был какой-то удушливый запах, вызывавший отвращение. Я раньше не мог себе представить такие тяжелые и долгие поцелуи, а она все время вздыхала: «Милый, еще, еще…»
Она вся распластывалась на мне; ее губы становились липкими, и она все время говорила мне о браке: как она постелит постели, как обставит гостиную, и как ее выберут в Женское общество. На улице раздавался тяжелый колокольный звон, и его эхо, доставлявшее мне страдания спустя много лет, мучило меня и сейчас. От этого звона у меня всегда начинала болеть голова, и мне становилось дурно. Я вырывался из ее объятий и оставлял лежащей в смятой юбке. Она приподнималась, прибирала волосы и шептала мне: «Ты вот и не знаешь, что хорошо». Ее груди мелькали в черном кружеве, крепкие и атласные; она, почти обезумев, извивалась в моих руках. Иной раз она прикусывала мое ухо, и ее смех, тогда звонкий и чистый, долго звенел в темноте. А я, измученный, преклонив перед ней колени, склонял голову к ее бедрам и ощущал на лице капли ее пота. Напрасно я пытался встать. Стоило мне взять в руки какую-нибудь вещь, она, смеясь, ее отнимала, и опять целовала меня, бледного и отекшего. Она извивалась в моих руках и опять рассказывала мне о комнатах и меблировке. Вспомнила какой-то эпизод из Девайтиса[29] и сказала: «Нет на свете ничего слаще». Я видел, что она раскраснелась, сжал ее и раздвинул ее лоно. Глаза ее вспыхнули, она все время мне шептала: «Милый, милый…» Своей щекой я ощущал сильное биение ее пульса. В беспорядке растерзанного гардероба, она растеклась по моим рукам, еще красивее и белее. Тяжелый запах кружил мне голову, ее горячие руки плясали на моих холодных плечах.
Тогда моя рука, зло и неловко, пробежала по ее телу, и разлетелись какие-то пуговки. Она встрепенулась, взвизгнула, оттолкнула меня и прошептала испуганно: «Нет, это — нет», суетливо подбирая предметы туалета, порхавшие белым и черным вокруг ее обнаженных коленей. Она ударилась об окно, звякнувшее, мутное и темное. Ее руки испуганно прижимались к груди, и к кружевам, и к растерзанному белому белью. Она улыбнулась слегка и прошептала: «Когда станешь мне мужем». Пальцы ее быстро затягивали и завязывали тесемки и дрожали под пуговками. Отвернулась и начала собирать волосы в пучок: «Я больше не приду…»
* * *
А потом наступил медовый месяц. Я был смешон в военной форме и бледен.
Медовый месяц, медовый месяц.
Руки липкие от раскаленного тела, а лица изможденные, бледные и желтые от наслаждения.
Она была повсюду. Запах ее тела, тяжелый, дурманящий запах, подкарауливал меня в стенах, в дверях, в печах, по столам, в еде и воде, в постели и в моей одежде, только в вине его не было.
Утомленный, я вставал со звоном колоколов и шел в церковь, пустую и холодную. Увидев меня, бледного и печального, она сразу меня обнимала и целовала, и шептала мне: «Милый, милый».
Пробило полночь. Я слышал, как она мне шепчет. Прогоняет зарю. Я почувствовал на себе ее теплое покрывало, с запахом ее грудей. Куда бы я ни протянул руки, пальцы мои терялись в ее грудях. Она стояла на коленях передо мной, на мне, за мной. Ее голос звучал отовсюду. Ее волосы я находил повсюду: в книгах, в еде, и вокруг шеи. Она старалась во всем мне угодить. Целыми днями смотрела, как бы подать мне то, на что упадет мой взгляд. Умоляла меня беречь здоровье. Ее походка была стремительной и плавной, ее красивые ноги сгибались ритмично. Ранним утром, когда я открывал глаза, я видел, как, почти обнаженная, она лежит на моей груди. В первые дни была слезлива и невинна, но вскоре, простодушно хихикая, начала сыпать шутками и остротами. Я с изумлением выслушивал ее откровения. Особенно по утрам она с удовольствием сидела, почти голая, в постели и расспрашивала меня о любовных похождениях. Я с изумлением слушал, как она, хихикая, описывает мне женщин, которых я едва помнил, тихих и приличных. О жене протоиерея рассказывала что-то такое страшное и гадкое, что я в бешенстве крикнул: «Молчи, прошу тебя». А она, испуганно и обиженно, прикрыла свои голые бедра и сказала: «Что ты удивляешься? А с кем мне об этом говорить, как не со своим мужем?» Так проходили утра.
Больше всего меня возбуждало, когда она, придерживая одной рукой сорочку, ходила по комнате и доедала остатки ужина и сласти, потом быстро подбегала и бросалась ко мне и опять меня целовала. Ее глупенькая головка исследовала все тайны лона; она спрашивала меня о таких странных вещах, что я иной раз, не часто, но хохотал. Усталый, отекший и слабый, я уходил и возвращался, а она меня ждала и обнимала еще в дверях. Я заметил, что с хихиканьем она стремилась испытать все плотские удовольствия. Дразнила меня, чтобы я ей открыл новое в любви, о чем она где-то читала. Целыми днями рассказывала громкие истории о женщинах из родных мест. Женщины, начинавшие седеть, у которых по четверо детей, в ее рассказах представали столь странными и безумными, что я, сам того не желая, заходился от смеха, представив рядом с ними тени их плешивых мужей, сгорбленных учителей, чиновников и священников. Тем вечером мы немного больше выпили за ужином, и она весело рассмеялась: «Что поделаешь, вокруг этого вертится мир».
Я умолк и посмотрел на нее изумленно. Она лежала совсем голая. Ее красивые ноги, вытянутые, вертелись в отблеске печи, как будто танцевали. Я тихо подошел к ней и, улыбаясь, с каким-то смущением, дотоле мне неизвестным, поднял с пола ее сорочку, прикрыл ее и начал рассказывать ей о земледельческих кооперативах.
Так проходили дни и месяцы. Она начала полнеть. И у нас не было детей.
Окно раскрыто. Я вижу в нем, как в мутном зеркале, мою бледную голову и мои окровавленные уста, когда глотаю лед. Далеко за холмами голубеют Карпаты. Говорят, что меня отвезут туда, что меня вылечат. Но мне хорошо здесь. Краков прекрасен. Старинный и туманный.
Она пришла в госпиталь уже на третий день. Да, любовь нас найдет везде. Она была маленькая, тоненькая, как девушка, идущая на свой первый бал. Ужаснулась. Нас было тридцать в палате. На улице светило ласковое осеннее солнце, а у меня на груди лежал пузырь со льдом. И когда она присела на край моей постели, я улыбнулся.
Сижу в подушках и смотрю на тусклые крыши. Это мое занятие. Говорят, от этого зависит жизнь. У врача длинная седая борода, которая будит меня по утрам. У нее был сын, маленький сын. Она не была ветреной, нет. Она сама ничего не умела, но ее тело умело дрожать от страсти. Она делала все, чтобы предстать передо мной образованной женщиной. Читала Ницше, а когда я ее в первый раз вдруг обнял, грубо, она мне сказала: «Вы демон». Был ноябрь.
Дни были странными. По вечерам небо теплое, и все мы оглядывались, чтобы увидеть ласточек. В переулках толпился народ. На деревьях набухали почки, и мы все смеялись над осенью, которая вообразила себя весной.
Она рассказывала мне, как ее выдали замуж, отделались, как от ненужной лошади. Муж ее был адвокатом, крупным, дородным мужчиной. Он где-то на фронте, судья военно-полевого суда. Мы сидели в госпитальном саду. Она шептала мне, стараясь, чтобы я понимал ее мягкую, шелестящую польскую речь. Небо над Краковом в ту пору было нежным, или мне это только казалось, потому что я опять стал молодым и живым. Где-то далеко гибли люди; она приносила газеты и читала мне о тяжелейших боях, в тех лесах, откуда я вернулся.
Она поместила меня в отдельную палату, окна которой смотрели на заиндевевшие окна старой церкви. Это было как в детстве. Верхушки деревьев заглядывали в окно, а из кровати я видел кусочек неба. А когда выпал первый снег, мы узнали друг друга лучше. Она часто плакала. И любовь к нам пришла, как что-то убогое и несчастное, и слова наши стали тише. Ее черная головка, со светившемся в темноте затылком, часто склонялась, усталая.
Помню, был день, полный снега. В окнах ветви деревьев все в снегу. Церковная колокольня исчезала и качалась в тумане. Она вошла и бросила мне в лицо перчатки. И, заледеневшая, упала на мою больничную кровать. Она хорошо спала, с тех пор, как узнала меня, она спит хорошо. Теплые сиреневые жилки вьются по ее рукам. Я распахнул на ее груди одежду и нашел там медальон, на котором была гравировка, печальная мазурка. Я никогда не видел ее груди. «Они были маленькие и нежные, глубокого сиреневого цвета». Она так сказала. Ее руки были бледными и теплыми. Они творили чудеса, эти руки, алчные до страсти, в которых была смелость, прекрасная, свободная, чарующая смелость. Они опьяняли, белые, бесстыдные, они делали прекрасным то, что приторно и у невесты. А любовь? Она в сиреневых жилках. В белых, как лебеди, ребрах, и на запястьях, розовых от страсти. Кто тот, у кого еще есть силы, молодость и очарование для любви? Кто тот, кто над теплой вздымающейся женской грудью, орошенной капельками ледяного, безумного, исступленного пота, не потеряет себя?
Помню, было Рождество. На чужбине она, незнакомая, пришла меня утешить, потому что я плакал над виселицами, возводимыми где-то. И она хорошо знала, что делает. Никогда в юной девушке не будет этой прелести. Только несчастье, отчаяние и тоска по утратам доводят до экстаза. За часы, окрашенные алым, и приглушенные вскрики мы отдали душу дьяволу. Любовь — не Бог, не животное, не безумие, она — туман, туман крови, молодости и неба. Заслоняет все, и жизнь прекрасна. Но туман всегда остается тяжелым, полным сладости и боли, и он связан с небом. Она часто плакала. Это не были всхлипы, но страшные крупные слезы, страшно крупные, набегавшие на ее глаза и дрожавшие на ресницах до тех пор, пока не скатывались вниз. И сегодня, стоит мне закрыть глаза, при мыслях о том дне меня охватывает какое-то бессилие. Я чувствую ее рдеющие румянцем щеки, касающиеся моего лба, чувствую ее легкие, такие легкие, словно ласточки, руки, как они обвивают мою шею. Вижу этот невинный рот, такой чистый, без той болезненной, напряженной усмешки любимого, а на ресницах две страшные слезы, и мне потом несколько дней так плохо. В черной пелерине, в скромном костюме, потому что я, увидев ее гимназическую фотографию, полюбил этот костюм, с юбочкой, всегда немного смятой, причесанная, тихая и напуганная, она всегда будет возникать предо мной, как страдающая тень, туманная, как она смотрит в окно и тихо произносит: «Восемь часов… мне надо идти».