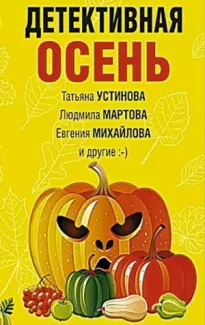Дневник о Чарноевиче

- Автор: Милош Црнянский
- Жанр: Классическая проза
- Дата выхода: 2018
Читать книгу "Дневник о Чарноевиче"
* * *
Однажды меня вывели из госпиталя. Я стоял и смотрел на этот полный снега город. И не было у меня ни одного родного человека, под тяжелыми тенями собора, где я долго думал о студентах и солдатах, которые вот так бродили в тени этих мрачных зданий и бились на отчаянно злых дуэлях, по подпольным трактирам, потом сидели, истекая кровью, обессилев, у старых алхимиков. В госпитале по ночам буянили боснийцы и харкали кровью. По воскресеньям на заутрене пели слабоумные девушки, одетые в белое и в белых толстых шерстяных чулках. Органист был слепой, а первым голосом пела одна монахиня со страшно обезображенным лицом. Дождь, тот жуткий, польский, шел по вечерам, а по коридорам бродили, стуча костылями, тени, харкающие кровью. На стенах висели деревянные распятия, с запрокинутыми головами и узловатыми коленями. Здесь я впервые ощутил неописуемый страх, здесь я впервые почувствовал сострадание ко всем нам.
Мое окно по-прежнему смотрит на заснеженные крыши. На окне три ее гиацинта. Я рассказывал ей о наших селах, об окне в моем доме, и наутро она принесла мне три гиацинта. У нее маленький сын, и, наверное, она тайком много плакала. Один стоит слева. Он розовый и тихий. Когда я по утрам его поливаю, он такой милый, спокойный. Он у меня увядает. В середине — белый. Каждое утро он напоминает мне бледные лица, которые я целовал, и которые теперь неизвестно где. Он слезливый и пугливый как ягненок. Третий стоит справа. Он алый. О нем я ничего не могу сказать.
Я на чужбине, постель застилаю килимами из Бачки. Наверняка, его соткала какая-то буньевка,[30] честь и хвала ей. Килим веселый и богатый, всегда меня радует в чужих краях; когда я на него смотрю, небо алеет. Я ей не сказал ни слова. Я не ее люблю. Я люблю небо, моя любовь нежна, во сне, и непреходяща. Ее нет в моей жизни. Ее глаза темные и теплые как финики. Ее волосы оливковые, как трава осенью. Или мне это только кажется, так кажется? Эти волосы трогательны, этих волос мне жаль, этой увядшей травы. Я сразу целую эти волосы. Ее голос почти детский, ее платочек надушен, а если бы не был, то пахнул бы чистотой. Ее глаза темны и пурпурны, как кровь, они — моя радость. Она мне много рассказывает о своем сынишке. Мы много говорим о ее сынишке. Ее лоб смешной, такой страдающий, с морщинками, усталый; может быть, от того, что она мать, может быть, от того, что она меня любит. Мне ее жаль, особенно я жалею ее руки, теплые и бледные. Она порядочная, никогда не говорите мне, что она непорядочная. У нее страстные, бледные, хрупкие руки, они стыдятся и прячутся. Ее плечи дрожат, как ветки под снегом.
Что с нами будет? Я не знаю, но я и не любопытен. Вернуться домой? Они не любят меня, а я их ненавижу. Может быть, мы счастливы от того, что я ее жалею. Вокруг нас под снегом наливаются соками веточки, а облака, вялые и утомленные, учат нас старой как мир, болезненной иронии, корни которой в огромной любви. Я все ждал, что еще что-то случится в жизни, что все, что до сих пор было, всего лишь комедия. Теперь вижу, что после сострадания не приходит ничего нового.
Я люблю ее. Поздно вечером мы возвращаемся в Краков. Поезд несется сквозь рощицы, сквозь крепостные стены, а мы, спрятавшись в уголке, сонные и бледные, тихо разговариваем о любви и несправедливости. А потом, в тумане, меж старых стен, я ухожу к ней. И вот ее сыночек обнимает меня за шею, а, она, преклонив передо мной колени, целует мне руки, дрожа от страсти и задыхаясь от отчаяния. Я буду вспоминать ее бледный облик. Что бы я ни подарил ей, она радостно вскрикивает, но эта радость быстро проходит. Я все жду, что еще случится в моей жизни, но после сострадания не приходит ничего нового. Ее походка дробная и легкая. Когда мы проходим мимо замерзших, заснеженных ветвей, я еще никогда не видел, чтобы она оттолкнула какую-нибудь резко. Нет, всегда мягко, а глаза ее при этом затуманиваются. Попадется ли по дороге увядший лист, пусть и грязный, она поднимет его и украсит себя им. «О, как я люблю тебя сегодня», — говорит она каждый день.
Моя жизнь завершена вот так, а я и не заметил, где она остановилась, и того, что я называю жизнью, все нет и нет. Небо любит людей, а вода нам журчит под окном всю ночь. Мы загляделись друг на друга. Она мне шепчет, просит увезти ее, унести отсюда, а я смеюсь и говорю, что на чужбине лучше. На улице кричат мальчишки, чрезвычайный выпуск газеты. Все это пройдет. Кто знает, может быть, будут ставить веселые оперетты о том, что сейчас творится. Я больше не знаю, что хорошо, а что плохо, но мне кажется, что и другие этого не знают.
* * *
Я лежу, и мои окна желтого цвета. Напуганный и больной, я вижу, как из темных подвальных окон выглядывает холод. А эта желтая листва, полная снега, идет со мной рядом уже три года и падает мне на грудь, и убивает меня. Я лежу и вижу в окне только деревья. Мы разговариваем. Листва прощается со мной и опадает. Разве любовь всего лишь листва? Я так мало люблю людей, а листва меня так хорошо успокаивает. Моя жизнь зависит от нее. Я утомлен. Я бы уехал куда-нибудь далеко, не оглядываясь. Ушел бы куда-нибудь в желтую листву, бог знает куда; а если бы кто-то заплакал обо мне, я написал бы открытку: «Прощайте, я ухожу, чтобы выздороветь».
Ловлю свое дыхание, я потерял его где-то в листве. Вокруг меня плачут, но не обо мне, а о румянце, которого больше нет на моем лице, о свете, которого больше нет в моих глазах. И опять меня мучают. По ночам меня запирают в тюрьмах, а днем я скитаюсь по госпиталям. Крепостные стены занесены снегом. Целыми днями я не вижу ничего, только крепостные стены в снегу. У нас нет ламп, мы сидим в темноте. А когда меня опять отпускают, все идет по-старому.
Ивы полны снега, спрашивают меня: ты все еще скитаешься? Трамваи полны бедняков и горя. Женщин, побледневших от мороза, стоящих целыми днями в очередях за каплей молока, за кусочком жира, с малыми детьми, посиневшими от холода. Как мне жаль этих людей. У нас хотя бы есть силы, чтобы мучиться, а эти люди слабые. У меня здесь нет никого. Я на чужбине, и проходят тени рядом со мной, черные, темные; они мне никто и ничто. Заснеженные ивы удивлялись мне. В моей душе не было никакой боли, но не было и счастья. Трамваи несутся. Дети иной раз улыбнутся мне, а на стенах мелькают железные вывески лавок. Воды сковало льдом, и они не текут… Дровяные склады и сараи, напоминающие мне о родных местах, засыпаны снегом, сухие и промерзшие.
Я пошел к ней. Она играла с ребенком. Ее сынишка, маленький и красивый, похоже, совсем не растет. «Это из-за моих грехов?» — спрашивает она и горько усмехается. Она меня сразу обнимает. Теперь она красивее. Она теперь полна тьмы. В ней есть теперь что-то болезненное, что-то, чего прежде не было, что-то, что появляется от застенчивости.
* * *
Мы завидуем тем, кто ранним утром идет на работу. У нас нет работы, и нас нигде не ждут. Меня — госпиталь, ее — ребенок. Мы прячемся. А если кто-то весело пожелает доброго вечера, отвечаем грустно — «Добрый вечер». Я стою с ней в крепостных стенах, над морем домов и больниц, чадящих, грязных. Холмы пахнут слезами. Мне не жаль тысяч и тысяч мерзавцев и прохвостов, и холопов, которые сейчас гибнут. Шумящие сосны смотрят на нас, бледных и синих от ветра и страсти. Мне никого не жаль, и меньше всего самого себя. Мне жаль только ее сынишку маленького.
Театры полны. Когда безногий входит в трамвай, он долго дожидается, пока какая-нибудь старая женщина не встанет. Я вспоминаю нашу докторицу, с красным крестом на груди. Она всегда меня называла «Пуби», и целыми днями рассказывала мне о госпоже Эллен Кей.[31] Вчера вечером ее застали, in flagranti, с капралом санитарной службы, за фисгармонией в актовом зале. Весь госпиталь смеется. На днях меня переводят в горы, в Закопане. Она и туда приедет, за мной.
Тяжело и медленно меня несли по ступенькам. Крупная строгая сестра быстро подошла ко мне и раздевала меня как ребенка. Она мне: «Почему вы не сказали, что вы хорват, было бы лучше». Она меня раздела, обложила пузырями со льдом. Я не произнес ни слова. Закрыл глаза и дрожал. А она села на мою кровать, ее крупный рот скривился и улыбнулся. Она вытерла капли пота с моего лба и завернула еще плотнее. А над моей кроватью висела табличка, под распятием с черными четками, и на ней, как бы в шутку, от веселых друзей, было написано, по-немецки:
Имя: Петр Райич
Воинское звание: пушечное мясо
Вероисповедание: греко-ортод.;
Семейное положение: не женат;
Возраст: 23
Профессия: цареубийца;
Диагноз: туберкулез.
* * *
Я хочу Вам рассказать.
Об одном человеке, которого я не могу забыть и который был мне больше, чем брат. Один единственный человек. Единственный юноша на всем белом свете.
Была первая апрельская ночь, я ее никогда не забуду: вспоминаю, вспоминаю, это мое несчастье и судьба моя. Все время вспоминать о чем-то горьком.
Тогда нас называли чудовищами, потому что мы им не нравились. Мы назывались «усталая молодежь», а Вена нас терпеть не могла.
Помните ли Вы, меня все ненавидели, кроме вас, далматинцев, а я вас всех любил. У нас было маленькое кафе, когда я с Вами познакомился, и каждый день мы здесь собирались, чтобы кутить всю ночь. Ах, Вы помните, какими мы были смешными?
Все мы были очень образованные. И все мы были не выспавшиеся, бледные, взлохмаченные. Мы тихо снимали шляпы и входили, и каждый приветствовал присутствующих по-своему.
И когда из-под шляп вылетали наши длинные черные волосы, слышалось: «народная песня, господа», «прерафаэлизм, господа», «синдикализм, господа», «одолжите мне одну крону, господа». У каждого было свое приветствие. Но мы очень любили друг друга, и мы были ничуть не более безумными, чем другие. По вечерам мы ужинали черным кофе с булочкой.
Люди равнодушно проходили мимо нашей толпы, стоявшей каждый вечер у Оперы. И каждый вечер мы говорили о России. Мы все помногу говорили.
Я помню одного, молчавшего. Помните ли, дорогой мой, его тень на белой занавеске, склоненную над микроскопом под чердаком, на которую мы подолгу смотрели, когда на утренней заре возвращались домой.
Он умер. Говорят, часто голодал.
На родине нас ненавидели, но все-таки не мы были худшими.
Мы были просто смешными и юными, ах, такими юными. Мы хотели спасти мир. Помните, какие мы несли глупости. Но все разговоры заканчивались Россией.
Помните того, кто доказывал, что мы самый музыкальный народ, кто кричал: «Открывай окно, я петь буду», и того, что вечно читал стихи о Вуке Мандушиче?[32] Помните, какие у нас были длинные волосы?
Но то, что нас крепче всего соединяло, это бедность и чахотка, они нам были вернее наших подружек, по большей части горничных. Помните, в нашем кружке и ветеринары говорили только о России и об искусстве.
Лежу и вижу только размытые крыши. Сегодня мне два раза делали фотографический снимок легких, и я настроен философически, дорогой мой. А они почти все мертвы. Лежат, лежат себе в земле, одни на юге, другие на севере, иные на востоке, иные на западе. Почему, дорогой мой? Ах, я хочу рассказать тебе сон, один мой сон, и тебя убаюкаю, хотя знаю, что и ты сейчас лежишь где-то и не можешь заснуть. Сегодня мне два раза делали фотографический снимок легких, и потому я сентиментален.