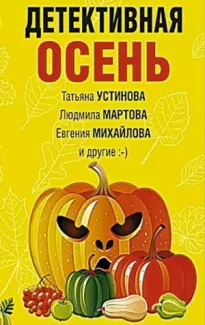Дневник о Чарноевиче

- Автор: Милош Црнянский
- Жанр: Классическая проза
- Дата выхода: 2018
Читать книгу "Дневник о Чарноевиче"
Дневник о Чарноевиче
Осень, и жизнь без смысла. Я провел ночь в тюрьме с какими-то цыганами. Шатаюсь по кабакам. Сажусь у окна и всматриваюсь в туман, и в багряные, мокрые, желтые деревья. Где жизнь?
Эти кровавые, красные, теплые леса, необозримые польские леса, как они меня утомили. Я солдат; о, никто не знает, что это значит. Но в той буре, что свела мир с ума, не много найдется людей, живущих так сладко и мирно, как я. Бреду из одного города в другой, под осенними деревьями, багряными и желтыми, которые действуют на меня так же, как на Хафиза вино.[1]
А тюрьма и муштра, и казарма, смрадная, завшивевшая и обшарпанная, так мало меня трогают. Я влюблен в эти воды, и в деревья, теряющиеся за крепостными стенами между лужами, желтыми и зелеными, вдоль которых трава такая мягкая, обожженная и теплая. А я люблю свою жизнь той чарующей любовью, которую пережил в прошлом году, возвращаясь из грязных молодых польских лесов, где столько их осталось лежать, растерзанных и окровавленных, с разбитыми прикладами лбами. Мрачными ночами, в маленьких домишках и избах, где я бывал в карауле вместе с другими парнями, я пишу много такого, о чем вспоминаю неохотно.
Был июнь. Веселый день, Видовдан.[2] Вена растекалась по купальням. Я спустился в нашу маленькую церковь, где дамы тотчас же оборачиваются на всякого вошедшего. Поп теребил Евангелие, листал его, вносил его, выносил его; дамы тихо переговаривались, а господа позвякивали мелочью для тарелочки с пожертвованиями.
Потом мы пошли в «Курсалон». Здесь, где когда-то, покашливая, прогуливался милый Бранко[3] и мечтал о виноградниках; на скамейках собираются дамы, одетые нарядно, в больших желтых туфлях. Здесь говорилось и говорилось, а над нами, высоко на фреске, обнимались трое нагих юношей, преклонив колена и целуя триколор. Был веселый день, Видов день. Вечером напивались, но это у нас «от прадедов». А теплая ночь, звездная ночь, вошедшая в раж от одного прекрасного убийства,[4] гремела гамом и гулом голосов веселившегося люда. На рассвете я пришел домой; лег спать. Видовдан прошел.
На следующий день прекрасные боснийки, провожаемые статными далматинскими студентами, счастливо отправлялись к своим старым мужьям. Уехал и я. В поезде все ругали убийцу. Одна дама говорила, что этот смешной видовданский герой был «испорченный», и что все гимназисты и все гимназистки в Сараево «испорченные». Мои глаза были полны слез. Ах, я был тогда еще юн, так юн.
Варадинские мосты дрожали от марша батальонов, а июльская ночь была светла от пьяной песни увенчанных цветами солдат. Мы слышали, что за городскими укреплениями расстреляли каких-то учителей. В церкви владыка славил верность императору, а по домам прятали иконы и портреты царя Душана. Только скорняки и опанчары[5] спокойно прогуливались, руки в карманах, сплевывали, перекрикивались: «Ацо!», пожимая плечами: «Да наплевать, с нами Англия».
Когда я сел в поезд, то про себя тихо повторял холодные, роскошные латинские слова: «…над империей Рима никогда не заходит солнце», и я натягивал и стягивал свои белые перчатки, которые так любил.
Потом я видел двор, полный священников, мужчин и женщин. О, как это было смешно. Мы все должны были уткнуться носами в стену и молчать. Так я стоял до вечера. Потом потерял сознание. Я был очень нежным молодым господином.
Потом меня били. О, и это не было больно. Я привык читать романы и часто думал о каторге Достоевского. Потом меня опять били по лицу. Из документов они видели, что я ехал в Рим, и кричали мне в лицо: шпион, шпион. Один священник лежал рядом со мной, рот его был окровавлен, а все зубы выбиты. Потом ввели молодую даму и двух девочек. И было тошно от того, как они вились вокруг нее. И на нее кричали: шпион, шпион, а она, такая бледная, обнимала маленькие каштановые головки своих дочурок. Потом меня опять били, и я с тоской озирался; испугался, снял белые перчатки и сел меж каких-то теней в темном коридоре, они страшно смердели, толкали меня и все время шептали: «Эй, ты, дай табачку».
Пушки грохочут. Кто-то празднует день рождения. А как родился я? Мой отец распевал песни и лепил банкноты тамбурашу на лоб. Всю ночь, в лютый холод, посреди занесенной снегом площади, вокруг костра стояла толпа народа и ждала рассвета, чтобы выбрать депутата. Говорят, наутро ему пришлось бросить свою инкрустированную серебром винтовку и собаку, своих пузатых нотариусов, и уехать куда-то далеко, на Тису. Говорят, он там целыми днями что-то пописывал, а ночами кутил; его пьяного привозили домой на санях. Только спустя пять лет родился я. И тогда меня уложили в бельевую корзину, а мать всю ночь пела мне колыбельные, охотнее всего ту, из песенника «Нитки жемчуга». Мне все время рассказывали о каких-то селах, что горели, и о каких-то людях в красных фесках, что беспрестанно резали и убивали. А однажды вечером мне рассказали, как сажают на кол. Говорят, я тогда сильно плакал.
Когда наступил пятый день, дитя надо было крестить, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Поехали, стало быть, по снегу и вьюге, на санях. Говорят, я не проронил ни слезинки. На Тисе за нами погнались волки, а лед под нами затрещал. Крестили меня где-то далеко, в какой-то старой, то ли греческой, то ли цинцарской[6] церкви. Мать моя плакала. Та изысканная благородная дама, что должна была окунать меня в воду, не приехала. Может быть, ее испугали волки. И так, потому что ждать не было возможности, позвали единственного православного человека, пономаря, по имени Божур. И он в слезах от нежданно-негаданно оказанной ему чести, держал меня в святой воде и плакал от того, что не было у него ни гроша, чтобы одарить младенца. Богатые цинцары и прекрасные гречанки, с удовольствием вспоминавшие сербских студентов, вспомнили и моего отца и приглашали нас в свои дома. А в снегу повсюду белели наши древние покинутые церкви, пустые. Мать моя, гордая и высокомерная, с презрением отклонила приглашения, и мы опять помчались по заметенной реке, уклоняясь от волчьего воя.
И с тех пор снег стал для меня в жизни чем-то прекрасным, а когда я начал распознавать вокруг себя дома и улицы, когда я начал понимать слова, мы опять куда-то переехали. О, мы часто переезжали.
На заре, в холодном сентябрьском тумане, я шел по мосту. Солнце было огромное, оно пламенело над крепостными стенами. Я поздоровался с ним и верил, что мне и здесь будет хорошо. Я нашел друзей. Они выходили из гнетущих, старых казематов; об одном я слышал, что погиб, о другом, что ранен. Тут я опять попал в тюрьму, но меня быстро выпустили. Они думали, что я скоро умру. Я кашлял и шел за повозкой, груженной горячими, свежими хлебами.
Болезни были лучшим из случавшегося со мной. Меня наряжали в белое и сажали в окне, а люди останавливались и смотрели. О, чего только со мной ни делали. Но и мать я вспоминаю, как сквозь сон. Она была молодой и красивой вдовой. Я о многом сожалею. Помню, она сидела на моей кровати и пела мне песни, в которых все время резали и убивали, а села горели. Как я из-за этого кричал. А наутро убегал из дому. Прятался под крепостными стенами, там, где изумрудные лужи, где трава была желтой и густой. Подолгу там лежал и ловил лягушек, зеленых, пятнистых, с красными глазами, я помню эти глаза, красные, желтые, таинственные, и как я подолгу на них смотрел. Лягушки дрожали у меня на ладони, а я, лежа в траве, долго, долго смотрел в их глаза, красные и желтые.
Помню колокольни. В моих родных краях наши церкви, пустые и пыльные. Большой старый церковный колокол гремел надо мной, а я, как маленький мышонок, сидел на корточках, на балках, и в страхе озирался. Тоска меня настигла рано. Никто меня не спрашивал, куда я иду, и никто не встречал меня, когда я возвращался домой. Моя мать была веселой, хорошенькой вдовой. Зимой я находил замерзших птичек и прятал их, а летом тайно обходил старые покосившиеся заборы и кормил щенков, о которых никто не заботился. А по субботам, когда гремели колокола, я прятался на колокольне, где было множество летучих мышей, и долго молился Богу. Все это неважно, потому что прошло.
Болезни были лучшим из случавшегося со мной. Я лежал, весь в кружевах, легких, как перышко, а в окне я видел своих голубей, которых я так любил, мысленно нянчил и купал. Матери приходилось доставать старые украшения, все свои жемчуга и шелковые вышивки, а я всё складывал себе на грудь и лежал, блаженствуя, и, смеясь, пересыпал из одной ладошки в другую золотых змеек, гривны, драгоценные пунцовые камни. И когда я вспоминаю, как давно это было, мне все представляется таким ужасным.
Мы ехали. Помню только повозку, несущуюся меж хлебов, и свою маленькую каштановую голову, в которой бурлило столько мыслей. Моя мать часто и охотно путешествовала. Тогда она всегда бывала бледной. Одевала меня в шелка и приучила меня к белым перчаткам, которые ночью насильно стягивали с моих рук. Но и она спала в перчатках, смазывала руки чем-то, что пахло фиалками, и спала в перчатках. Я все видел. Мы все время путешествовали. Она носила черное. А ее служанки были такие распущенные; помню, однажды я плакал от стыда и страха. Бледный и невыспавшийся, я испуганно смотрел на людей вокруг себя, на вокзалы и поезда, чадящие и дымные. Она все время облачалась в свои благоуханные черные шелка и возила меня по курортам, где гуляла под лунным светом и танцевала на полу, блестящем и мерцающем. Ночью вокруг нас были черные и огромные горы. С особым удовольствием она танцевала с валашскими офицерами, приносившими мне сласти. Они катали меня на лошадях, и я помню, как испугался, когда мы остановились где-то в лесу и встретили мать, идущую пешком и громко смеявшуюся. Я заметил, что этот хохот, ненавистный мне, всегда повторялся, когда она надевала то черное шелковое платье, что было ей так тесно. Тогда мои глаза весь день были полны непролитых слез. Теперь все это мне кажется таким странным и невероятным. А вечерами я всегда вспоминал старую церковь, рядом с которой мы жили, и, лежа рядом с матерью (я все еще спал с ней, хотя она этому резко противилась), часто тихо плакал в темноте. Она же рано утром уходила куда-то, купаться. Много раз, еще полуобнаженная, сидя перед зеркалом, упрекала меня за то, что не сплю. Но я уже в детстве не мог спать.
На утренней заре фонтаны были очень холодными, но я сидел рядом с ними и дожидался матери. И теперь, столько лет спустя, нет на свете ничего такого, что бы меня удивило. В одном зеленом павильоне играл военный оркестр, а она вела меня в толпе женщин и надушенных офицеров, и я ловко катил обруч. И теперь, когда юность прошла, и когда я все понимаю, часто содрогаюсь от ужаса. Как только мы возвращались домой из чужих краев, звонили колокола. Мне казалось, что они звонят именно по мне.
По воскресеньям было хорошо. Тогда со стен улыбались лица, обрамленные высокими белыми воротниками, а под ними в веселом гуле голосов кружилось множество женских шляпок, напоминавших мне колеса обшарпанных свадебных экипажей, украшенных цветами. Моя мать любила ходить на свадьбы.
Сначала вставал и говорил какой-то господин в черном, как-то долго и невнятно, всё про Косово. Потом молодой священник читал «Ветер». Певческое общество, прижавшись к стенке, хихикало и влюбленно тискалось. Подружки моей матери меня подкарауливали; только протопопица обращалась ко мне открыто и внятно, с улыбкой. Потом певческое общество пело, что-то про Кара-Мустафу,[7] а я стоял, бледный, и меня знобило от этих песен. И всегда у меня на душе после такого гвалта оставалась усталость, от этих песен. Я стоял и слушал, как моя мать поет первым голосом. Протопопица меня спрашивала, улыбаясь, почему я к ней не прихожу и почему так редко выхожу из дому, и добавляла, кивая головой в сторону моей поющей матери: «Вам-то можно в сопрано, вы вдова!»