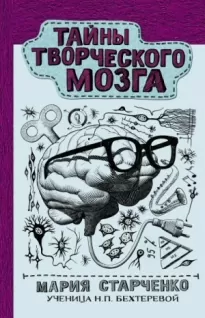Том 10. Публицистика (86)
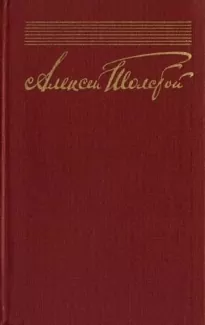
- Автор: Алексей Николаевич Толстой
- Жанр: Публицистика
- Дата выхода: 1986
Читать книгу "Том 10. Публицистика (86)"
Возможности кино
Много уже лет ведутся споры на тему – о Кино как искусстве. Много было серьезных попыток практически превратить Кино в искусство. Ставились психологические романы (инсценировки и оригинальные), искались «настроения», кинотипы, кинопоэтичность и т. д.
Но все эти тени на экране прошли как тени. Сейчас с тем же волнением читаем Пушкина и Гоголя. Мы смотрим в театре Шекспира. Но разве мы пойдем смотреть «художественную» фильму, которая шла десять лет тому назад? Это – скользнуло по нашему восприятию как тень.
Все попытки притянуть Кино к словесному и изобразительному искусствам оказались неудачными, – все – с изъяном.
Так, «Война и мир» Толстого превращалась в неубедительную серию оживших иллюстраций. Андрей Болконский – в такого-то актера, изображающего в данном случае Андрея Болконского. Наташа Ростова – в такую-то актрису и т. д…
Роман, иллюстрированный в Кино, – размагничивался, типы его превращались в частные случаи; поэтическое напряжение – в прозаическую иллюстрацию; писательская идея – в чистую случайность, приклеенную кинорежиссерским клеем к фильме.
Попытки создать самостоятельный кинороман оказывались еще ужаснее. Сразу же создались кинотрафареты (художник на берегу моря пишет портрет чужой жены; граф в цилиндре, в белом кашне; роковая женщина, танцующая на столе; сыщик с сильно выраженным подбородком; умирающая старуха) – и т. д.
Эти кинотрафареты волею пошлости стали участниками какой-то одной-единственной кинопьесы, с одним-единственным сюжетом, который можно было рассказать, не ходя в кино.
Более серьезными были попытки немецкой кинематографии по созданию кинохудожественного романа. Немцы, вообще, охотники до ужасов, кошмаров и всякой патологии. Область эта весьма благодарная, так как затрагивает примитивные, ясно выраженные эмоции. Оперировать с ужасами и кошмарами настолько же легче, чем с тонкими и возвышенными эмоциями, насколько легче колотить в медный таз, чем играть на скрипке.
Немцы использовали вовсю ужасы, кошмары и патологию. Но и эта область стремительно выдыхается. Доктор Мабузо – мощный трафарет, предел. За ним – уже тьма унылой пошлости.
Непрерывно Кино становится перед роковым вопросом: что же дальше, какой путь? (Это роковое становление совершенно незнакомо в искусствах, – словесном, изобразительном и музыкальном, которые ищут новых путей в революционном порядке или в эволюционном.)
В Кино, стремящемся стать искусством, есть какая-то первоначальная невыясненность, туманность, непроявленность, – это ребенок, который только учится ходить и лепетать.
А власть его, между тем, непомерна.
За последнее время (после войны), когда кинематография в Америке стала второй по величине промышленностью, когда ежедневно на земном шаре около полумиллиарда человек посещают театры живых теней, – о художественных возможностях (о благодетельном, а не о растленном влиянии), вопрос о воспитательном значении Кино становится вопросом общечеловеческой важности.
Ясно, что Запад и Америка, где в свободной кинематографии один закон: спрос – производство, – готовят ряд неожиданных сюрпризов, может быть, более серьезных, чем это сейчас может представиться. Я уже не говорю о том, что роман, музыка, живопись, театр, – там на пути к вырождению, угасанию (огромная роль в этом бульварной кинематографии очевидна и доказана), но за последнее время (в Германии) появилась серьезная литература о зависимости между преступностью и детективными фильмами. Зарегистрировано большое количество случаев, где обстановка и форма преступления являлись подражанием известной кинокартине.
В социальной обстановке Запада ничего нет удивительного, если Кино специфической романтикой своей насыщает смутные и озлобленные души, растлевает их, готовя к хаосу и варварству.
Там, на Западе, в обстановке разочарования, усталости и мутно-тревожного будущего Кино – опиум масс.
Дико, непонятно на свежий взгляд представить: сегодня вечером полмиллиарда человек, молча, в продолжение двух часов, глядят на полотно, где изображается вздор, сплошь неверная чепуха, мещанская романтика. Но – сидят, вздыхают, опьяняются.
А между тем, какие возможности, какие перспективы, какая мощная сила скрыты в Кино.
Я не стану здесь пытаться решать вопрос, – что есть искусство как таковое.
Принадлежность того или иного явления к искусству будем определять по воздействию его на человека: если воздействие данного явления таково, что оно приводит человека в растревоженное морально, умственно и эстетически повышенное состояние, то это явление – искусство.
У каждой отрасли искусства, – у каждой из девяти муз, свои способы воздействия.
Так, искусство слова воздействует на человека воспоминанием. Архитектура – величием замысла и разумностью осуществления (идея архитектуры: дом человека – преображение природы). Музыка воздействует тем закономерным сочетанием звуковых ритмов, которые уносят слушающего в еще не наступившие мгновения, музыка предваряет время, всегда устремляется в будущее. Живопись воздействует покоем застывших форм и сочетанием цветов, дающих максимальное удовлетворение созерцанию. И т. д. и т. д.
Бывает – одна отрасль искусства берет взаймы у другой способы воздействия. Так, роман возьмет живописность, статичность. Живопись – динамику музыки. Архитектура – мечтательность, воспоминание. Попытки такого заимствования ведут к разложению, декадансу.
Кино еще не чистое искусство, так как оно еще не нашло свой, одному ему принадлежащий способ воздействия. Кино должно стать искусством. В хоровод девяти муз должна войти десятая муза – Тень.
Каковы же могут быть средства кино – его художественные воздействия?
Кино – это тень человека, скользящая по полотну.
Тень изображает страдания, радость; любит, борется, умирает. Все это – забавно. Но это еще не искусство. У тени нет ни голоса, ни запаха, ни скульптурности, ни окраски.
Но, предположите, вдруг вы, – сидящий перед экраном, – заприметили у тени какое-то знакомое движение. Вы насторожились: в таком-то случае всегда вы сами делаете это движение. Вы начинаете верить тени, она повторяет при известном сочетании обстоятельств ваши движения.
Тень – ваш двойник.
Тень показывает вас самого. Но вас, – очищенного от случайности, от дробности, от неряшливости, – идеальный скелет ваших переживаний, выраженный в движениях, жестах и мимике.
Вот чудо экрана, чудо Кино: повторение, – в настоящем, прошедшем и будущем, – вашей очищенной от всего случайного жизни, которую вы рассматриваете со стороны.
Китаец, русский, американец, француз, австралиец, – каждый узнает себя в этом человеке: свои страсти, свои ошибки. Тень – это суммированный Человек.
Способ воздействия киноискусства, его орудие – это очищенный до абстрактной идеальности общечеловеческий жест.
Я не хочу сказать, что кинокартина должна быть абстрактна, лишена материальности. Я лишь говорю о тайне Кино, о той тайне, которая из рифмованных слов делает поэзию Пушкина, из семи звуковых шумов сонату Бетховена, из семи цветов – пейзаж Пуссена.
Если в картине, проходящей передо мною на полотне, как бы великолепно она ни была обставлена, сверхамерикански смонтирована, снабжена трюками и прочее, – если в этой смене человеческих теней я не примечу бесконечно верного, человеческого, моего жеста, – я останусь равнодушен.
Обычно киноактер изображает полагающиеся движения, – он играет, так сказать, аллегорически. Собираясь убить – он крадется вдоль стены. Разбитый душевным потрясением, он шатается, хватаясь за предметы. У него умерла любимая женщина – он садится и закрывает лицо руками. Испытывая ужас, он вытаращивает глаза и т. д.
Но я, но мы, но Человек никогда этих движений не делает. Это аллегория. Мы помним («Война и мир»), что Денис Давыдов, увидев мертвого Петю, залаял. В кинофильме показали бы этот момент примерно так: лежащее тело Пети и над ним Денис Давыдов с ужасно выкаченными глазами. Это иллюстрация к тому, как Денис лает. А на самом деле, вместо всех этих частных случаев, достаточно было бы какого-то одного, скажем, движения век или жеста руки, движения очищенного от плоти, сдержанного и общечеловеческого, чтобы я понял, что Денис залаял.
Есть другого рода актеры, – сознательно играющие самих себя, индивидуалисты. О них я не говорю. Такой актер-индивидуалист, возвышаясь до гениальности, становится общечеловечен.
Пример – Чаплин. В его фильмах, примитивных, часто даже скверно обставленных, весь фокус зрения на жесте Чаплина, бесконечно понятном и смешном, потому что это первоосновной жест, идеальный, жест Человека.
Итак, первая посылка: для того, чтобы Кино стало искусством – нужна школа киноактеров.
Школа, в которой бы режиссеры, художники, писатели, ученые психологи, историки и т. д. искали бы эти первоосновные, общечеловеческие жесты.
Может статься, что окажется немного, скажем, – всего семь жестов, как семь цветов солнечного спектра, как семь звуков гаммы, как семь гласных речи. Но из этих семи жестов будет порождено бесконечное количество сочетаний.
Когда будут найдены эти семь жестов, – кино преобразится в чистое искусство. Тень станет десятой музой.
Что такое жест?
Бывает жест, как движение, изображающее чувство, мысль, волю. Жест – рефлекс, жест – результат переживания, перешедшего в мускульное движение.
Такой жест есть, сам по себе, уже продукт искусства, конечный результат.
Сложнейший человеческий организм повседневно рождает жесты. Волны чувств и ощущений как бы ежемгновенно кристаллизуются в жестах и замирают на них (пример: человек, убитый горем, садится, запускает пальцы в волосы, опускает морщины лица и т. д.).
Попробуйте сфотографировать этот жест или – попробуйте повторить его на сцене (что, обычно, и делают средние и плохие актеры). На фотографии, на сцене такой жест явится – иллюстрацией. Я, зритель, могу даже любоваться им. Но во мне никогда не вызовет всю ту бурю ощущений, результатом которой он появился. Я лишь констатирую его существование.
В огромном большинстве случаев от этих результатных жестов и происходят чудовищные трафареты театра и кино.
Есть другой породы жесты. Это жесты, предшествующие мысли и чувству, жесты первоосновные, жесты звериные.
Тетерев на току особенным образом распускает хвост и напыщенной походочкой похаживает близ места, где сидит самка. Я уверяю вас, что ход мыслей тетерева в эту минуту совсем не таков: «ага, распущу, мол, я хвост да гордо пройдусь, ан – тетерка и влюбится». Нет, это упадочническая психология. Тетерев распускает хвост и надувается и от этого своего жеста чувствует прилив любовной отваги.
Возьмите саблю, сильным движением вытащите ее из ножен, за жестом последует воинственная гамма ощущений.
Все жесты любви, жесты гнева, жесты самозабвенного страдания – того же первоосновного, звериного порядка.
«Я вас люблю», – и руку – на сердце: это жест результатный, изображающий. Девушка кладет руку себе на грудь (ее никто не учил этому жесту, она в первый раз это делает) и, вдруг, чувствует, что – любит. Это жест – первоосновной, звериный.