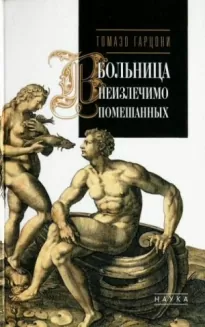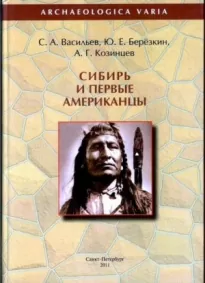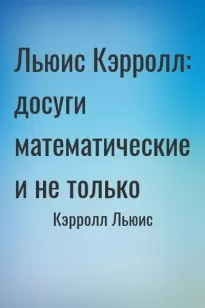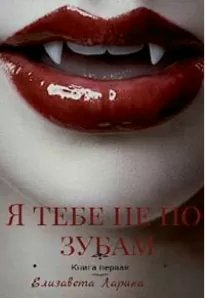Избранные работы по истории культуры

- Автор: Клайв Льюис
- Жанр: Религия и духовность: прочее
- Дата выхода: 2015
Читать книгу "Избранные работы по истории культуры"
II. Однодум
Как было замечено выше, главная особенность Льюиса-ученого, которая сразу обращает на себя внимание при знакомстве с его работами, — универсализм и то, что мы назвали однодумством. Разглядев как следует эти родовые черты, мы лучше поймем его книги и само устройство его вселенной. Попробуем понять, как же устроен универсализм нашего автора.
Мгновенно бросающееся в глаза свойство любого построения Льюиса, будь то историко–литературное, философское или апологетическое, — страстность, а подчас и пристрастность, неумение отстраниться от предмета своего высказывания, отнестись к нему как к объективированному предмету. Во время знаменитой прогулки с Толкином и Дайсоном, ставшей для Льюиса решающим толчком к обращению в христианство, на замечание Льюиса о философии как предмете Дайсон ответил, что для Платона философия была не предметом, а путем. Как бы мы ни относились к христианству Льюиса, невозможно считать случайным совпадением, что он обретает голос именно после обращения: первая книга, на которой он ставит свое имя — аллегория «Кружной путь»; свои ранние не вполне удачные поэтические опыты (стихотворения и поэму) он печатал под фамилией матери. Характерно и то, что, поглощенный аллегорическими штудиями, сопровождавшими написание «Аллегории любви», Льюис не может удержаться, чтобы не поэкспериментировать с этим жанром самому. В «Аллегории» Льюис уже совершенно узнаваем, он пишет, передавая свое увлечение читателю, не скрывая восторга, если разбираемый автор ему нравится[1661], или разочарования и даже досады — если тот скучен[1662]. Эта непривычная для исследователя страстность — та же самая, что в христианской проповеди Льюиса, строгой и ясной с точки зрения логики, но всегда полной личных мотивов. Именно это делает его самым популярным апологетом XX века, именно это, в конце концов, дает решимость и дерзновение описать «занебесную область» в «Космической трилогии» или «Расторжении брака» и самого Христа в Нарниях. В любом случае книги Льюиса невозможно разделить на «работу» и безобидное хобби устающего на службе профессора. И дело совсем не в том, что написанное «в свободное от основной работы время» заметно обошло по популярности его ученые трактаты, — темы исследований тесно переплетаются с сюжетами сказок, а трактаты нередко поражают совершенно неакадемической увлеченностью и доверительностью. Льюис вполне может заключить раздел «Аллегории», посвященный анализу поэм Боярдо и Ариосто, таким, например, пассажем:
Джонсон однажды описал идеальный образ счастья, которое он предпочел бы, если бы его не заботила загробная жизнь. Что касается меня, то, с такой же оговоркой, я выбрал бы чтение итальянских поэм: все время выздоравливать после какой‑нибудь пустяковой болезни и все время сидеть у окна, выходящего на море, читая эти поэмы по восемь часов каждый счастливый день (С. 370).
С другой стороны, Льюис находит возможность применить свое христианство к исследованию таким образом, что это вовсе не выглядит нарушением правил научного исследования. Так, убеждая читателя отнестись к Мильтону всерьез, без надменного пренебрежения к «богословскому вздору» трехсотлетней давности, он замечает:
Чтобы не иметь незаслуженного преимущества перед кем‑то из читателей, мне следует предупредить, что сам я христианин и в самом деле просто–напросто верю кое во что (далеко не во все) из того, во что неверующий читатель должен «представить себе, будто верит». Но тому, кто хочет понять Мильтона, мое христианство выгодно. Разве плохо, читая Лукреция, иметь под боком живого эпикурейца? (С. 536).
Эта монолитность, однодумство — продуманная позиция, результат непростого выбора. Напомним, что Льюис перебрался в 1954 году из Оксфорда в Кембридж во многом из‑за более христианского и менее сциентистского духа, царившего там в это время[1663]. Дело здесь не только в стремлении сохранить целостность своего мировоззрения. Ярче всего описываемую позицию отражает «духовный попечитель» инклингов Чарльз Уильямс, представлявший собой, пожалуй, пример максимального отклонения в сторону «не просто науки» и превращавший в мистику все, о чем бы ни писал, — от исследования об истории Церкви или о Данте до детектива. В одном из своих романов, том самом, прочитав который Льюис захотел познакомиться с автором, Уильямс «дает выговориться» платоновскому учению об идеях: мир вещей встречается с миром идей, и героиня, многие годы формально занимавшаяся Абеляром, вдруг встречается с ним лицом к лицу — и не может выдержать этой встречи. В письме другу Льюис назвал чтение «Льва» очень важным для себя опытом: «Я увидел (в образе героини), отчетливее чем когда бы то ни было, специфический грех злоупотребления интеллектом, к которому склонны люди моей профессии»[1664]. Тут вспоминается и Толкин, не умевший ограничить свои занятия англосаксонской литературой и скандинавской мифологией рамками академической науки, и Дороти Сэйерс, позволявшая себе не только драматургическое переосмысление новейших достижений библеистики, но даже драматургические вставки во вполне ученые статьи, — надо заметить, все это нередко воспринималось коллегами крайне скептически[1665].
Цитировавшиеся выше слова Льюиса о старых поэтах, которые «не учат добродетели, а преклоняются перед нею, и то, что мы принимаем за дидактику, на самом деле часто — волшебство», полностью приложимы к нему самому и его методу изложения. Так, говоря о том, что понять автора можно, только попытавшись примерить на себя его систему координат, Льюис замечает, что тем самым мы сможем воспринимать его творения «не просто адекватнее — в большем соответствии с их авторским предназначением, — но с куда большим интересом, пользой и восторгом»[1666]. Интерес, доходящий до восторга, — нормальное для Льюиса отношение ко всему, чем бы он ни занимался: он был страстным курильщиком, страстным христианином и страстным читателем. По бытовавшей в Оксфорде легенде, Льюис прочел все книги на английском языке, изданные в Англии в XVI веке[1667]. Он советовал ученикам воспринимать чтение не как обязанность, а как не слишком постыдный порок, который не стоит особенно афишировать. Заметим кстати, что столь важный для автора «Аллегории любви» концепт палинодии не в последнюю очередь описывает противоречивое отношение самого Льюиса к собственным влюбленностям. Периодически с рвением самобичевателя он напоминает об относительной ценности культуры — возьмем эссе «Христианство и культура» (1940) или проповедь «Ученость в военное время» (1939), замечания в переписке с доном Калабриа, — словно бы специально осаживая себя: литература ничем не важнее искусства сапожника и тем более служения солдата, защищающего родину.
Неудивительно, что это самое однодумство Льюиса приводит к тому, что темы и образы, разрабатываемые им в одних «жанрах», развиваются или по–новому осмысляются в других. О том, что, занимаясь аллегорическим методом как ученый, Льюис не преминул написать собственную аллегорию, мы уже упоминали. Приведем несколько примеров непосредственно из ученых монографий Льюиса. Развивая в «Аллегории любви» тему природы поэтического вымысла, он говорит:
Для нас само собой разумеется, что в распоряжении писателя, кроме реального мира и мира его религии, еще и третий мир, мир мифа и вымысла. Возможное; чудесное, принятое как факт; чудесное, заведомо вымышленное — вот три элемента из арсенала постромантического поэта; вот три слова, сказать которые суждено Спенсеру, Шекспиру и Мильтону. Лондон и Уорик, рай и ад, царство фей и остров Просперо имеют свои законы и свою поэзию. Однако это тройное наследие — позднее завоевание. Вернитесь к началу любой из литератур, и вы его не найдете. В начале единственными чудесами были чудеса, принятые как факт. Поэт распоряжался только двумя из трех миров. Когда час пробил, в мастерскую поэта потихоньку прокрался третий мир, но произошло это по какой‑то случайности. Старых богов, когда их перестали воспринимать как богов, с легкостью можно было запретить как бесов; это и случилось, принеся неисчислимый вред, в истории англосаксонской поэзии. Лишь их аллегорическая роль, подготовленная медленным развитием внутри самого язычества, сохранила их, словно временная гробница, до дня, когда они могли вновь проснуться в красоте признанного мифа, и подарила Европе нового времени «третий мир» романтической мечты. Они проснулись иными и дали поэзии то, чем она едва ли обладала прежде (С. 82).
Тема трех миров глубоко занимает Льюиса, и если в литературоведческих работах он продолжает развивать мысль об умерших богах как декоративном материале, в романе «Мерзейшая мощь» он позволяет себе обозначить религиозные и историософские возможности этой идеи:
…в мире абсолютно все утончается, сужается, заостряется <…> в любом университете, городе, приходе, в любой семье, где угодно, можно увидеть, что раньше было… ну, смутнее, контрасты не так четко выделялись. А потом все станет еще четче, еще точнее. Добро становится лучше, зло — хуже; все труднее оставаться нейтральным даже с виду <…> Быть может, «течение времени» означает только это. Речь не об одном нравственном выборе, все разделяется резче. Эволюция в том и состоит, что виды все меньше и меньше похожи друг на друга. Разум становится все духовней, плоть — все материал ьней. Даже поэзия и проза все дальше отходят одна от другой. <…> в его [Мерлина. — Н. Э.] время человек мог то, чего он сейчас не может. Сама Земля была ближе к животному. Тогда еще жили на Земле нейтральные существа <…> Тогда на Земле были твари… как бы это сказать?., занятые своим делом. Они не помогали человеку и не вредили. У Павла об этом говорится. А еще раньше… все эти боги, феи, эльфы… (Перевод Н. Трауберг)
Наконец, в «Отброшенном образе» нейтральным, точнее промежуточным существам посвящена целая глава. С необычной для академической работы симпатией и без свойственного «традиционным» исследованиям стремления развенчать вымысел они укладываются на свою полочку в системе мира средневекового человека.
Другой случай: описание явления Природы у Алана Лилльского, по сути — божества естественной любви, и ее воздействия на земной мир Льюис приводит в своей книге целиком, подчеркивая его важность. Явление «земной Венеры» — олицетворения Природы и природной любви в образной системе романа — и «священный брак» персонажей под ее воздействием яркими красками рисуется в той же финальной главе «Мерзейшей мощи», а в «Отброшенном образе» подробному разбору действия планет, и в том числе Венеры, уделено довольно много места.
Дивный «солнечный корабль с кошкой, крокодилом, львом и командой из семи матросов», на котором невеста из «Бракосочетания Меркурия и Филологии» приплывает к краю света, где пассажиры покинут его и двинутся дальше, не может не напомнить читателям «Хроник Нарнии» о плавании на край света героев одной из нарнийских повестей; готовясь пить из чаши Бессмертия, Филология извергает из себя книги точно так же, как Рипичип, воплощение рыцарства, отшвыривает шпагу на пороге страны Аслана.