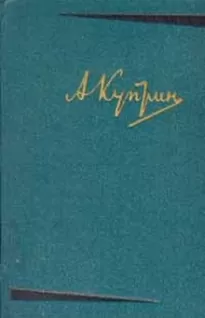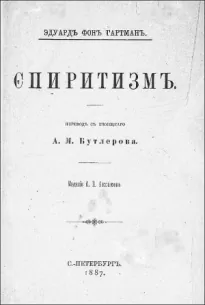Подросток
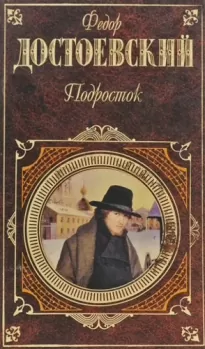
- Автор: Стефан Цвейг
- Жанр: Русская классическая проза
- Дата выхода: 2008
Читать книгу "Подросток"
Герои Достоевского
Вулканичен он сам, вулканичны и его герои, — ибо только в самые критические минуты свидетельствует человек о Боге, создавшем его. Они не размещаются спокойно в нашем мире, всегда они спускаются в своих ощущениях в глуби извечных проблем. Современный человек, человек нервов, сочетается в них с первобытным существом, которое знает в жизни только свои страсти, и, делая последние признания, они в то же время косноязычно произносят изначальные вопросы мира. Их формы еще не остыли, их сланцы не окаменели, их лица не сглажены. Вечно несовершенные, они вдвойне жизненны. Ибо совершенный человек в то же время и законченный, у Достоевского же все уходит в бесконечность. Люди лишь до тех пор представляются ему героями, достойными художественного изображения, пока они пребывают в разладе с собой, пока они являются проблемой: совершенных, зрелых он сбрасывает с себя, как дерево плод. Достоевский любит свои образы только до тех пор, пока они страдают, пока они обладают повышенной, двойственной формой его собственной жизни, пока они представляют собой хаос, стремящийся превратиться в рок.
Попытаемся поставить его героев в другие рамки, чтобы лучше понять их изумительное своеобразие. Сравним. Если восстановим в памяти любого героя Бальзака, как тип французского романа, невольно создается впечатление прямолинейности, ограниченности и внутренней законченности. Понятие отчетливое и закономерное, как геометрическая фигура. Все бальзаковские образы сделаны из одного вещества, которое может быть в точности установлено психической химией. Они являются элементами и обладают всеми присущими элементам качествами; следовательно, им свойственны и типичные формы моральной и психической реакции. Они уже почти не люди, скорее очеловеченные свойства, — точные приборы какой-нибудь страсти. Имя у Бальзака можно заменить названием свойства: Растиньяк равен честолюбию, Горио — самопожертвованию, Вотрен — анархии. В каждом из этих людей доминирующий импульс подчинил себе все остальные внутренние силы и направил их в основное русло жизненной воли. Все они, эти герои, поддаются характерологической классификации, ибо их душа вмещает лишь одну пружину, с большей или меньшей энергией движущую их в человеческом обществе; словно пушечное ядро, врезается каждый из этих молодых людей в гущу жизни. В известном смысле хочется назвать их автоматами: с такой точностью они реагируют на каждое жизненное раздражение, что сила действия и сопротивления этих механизмов может быть точно рассчитана специалистом-техником. Если хоть сколько-нибудь вчитаться в Бальзака, то реакцию характера на любое событие можно рассчитать так же, как параболу полета камня, зная силу размаха и его тяжесть. Скупость Гранде-Гарпагона будет возрастать в прямом отношении к самоотверженности его дочери. И когда Горио еще имеет приличное состояние, и его парик тщательно напудрен, уже знаешь, что когда-нибудь ради дочерей он пожертвует своим жилетом и продаст на лом свое последнее достояние — серебряный сервиз. С необходимостью он должен действовать именно так — в силу единства своего характера, в силу импульса, которому его плоть лишь до известной степени сообщает человеческий облик. Характеры Бальзака (также Виктора Гюго, Скотта, Диккенса) все примитивны, одноцветны, целеустремленны. Они — единства, и потому могут быть взвешены на весах морали. Многоцветен и тысячелик в этом духовном космосе лишь случай, с которым они сталкиваются. У этих эпических писателей события многообразны, а человек является единством, и роман повествует о борьбе за обретение силы против земных сил. Герои Бальзака, как и французского романа вообще, или сильнее, или слабее противостоящего им общества. Они овладевают жизнью или гибнут под ее колесами.
Герой немецкого романа, типом которого можно считать хотя бы Вильгельма Мейстера или Зеленого Генриха, не так уверен в своем доминирующем импульсе. В нем сочетаются разные голоса, он психологически дифференцирован, духовно полифоничен. Добро и зло, сила и слабость беспорядочно протекают в его душе: его исток — смятение; утренний туман заволакивает его взор. Он ощущает в себе силы, но они еще не сосредоточены, еще борются в нем; он не гармоничен, он только одушевлен волей к единству. Немецкий гений в конечном счете всегда стремится к порядку. И все «романы развития» развивают в немецких героях не что иное, как личность. Силы концентрируются, человек вознесен к немецкому идеалу сильной личности, «в мировом потоке, — по слову Гете, — создается характер». Перемешанные жизнью элементы кристаллизуются в обретенном покое, для мастера прошли годы обучения, и с последней страницы всех этих книг — «Зеленого Генриха»,[6] «Гипериона»,[7] «Вильгельма Мейстера», «Офтердингена»[8] — ясный взор уверенно смотрит в ясный мир. Жизнь примиряется с идеалом; накопленные силы уже не расточаются: упорядоченные, они направлены к достижению высшей цели. Герои Гете, так же как герои всех немецких писателей, развиваются в высшие формы: они приобретают действенность и в опыте изучают жизнь.
Герои Достоевского не ищут и не находят связи с действительной жизнью: в этом их особенность. Они вовсе не стремятся к реальности, а сразу же выходят за ее границы, в беспредельность. Их судьба сосредоточена для них не вовне, а внутри. Их царство не от мира сего. Все мнимые виды ценностей — положение в обществе, власть и деньги — все материальные блага в их глазах не имеют цены — ни как цель у Бальзака, ни как средство у немцев. Они вовсе не стремятся пробиться в этом мире, так же как не хотят властвовать или подчиняться. Они не сберегают, а расточают себя, не исчисляют и остаются вечно неисчислимыми. Благодаря бездеятельности натуры на первый взгляд они кажутся праздными мечтателями и фантазерами, но их взор только кажется пустым, ибо он обращен не на внешнее, а жгуче и пламенно устремлен в себя, на собственное существо. Русский человек охватывает все в целом. Он хочет ощущать себя и жизнь, а не ее тень и отражение, не внешнюю реальность, а великие мистические основы, космическую мощь, чувство бытия. Вникая глубже в произведения Достоевского, всюду слышишь, будто журчанье глубинного источника, эту примитивную, почти растительную, фанатическую жажду жизни, чувство бытия, это первобытное стремление, требующее не счастья или страданья, которые уже являются качественно определенными жизненными формами — оценкой, различением, — а равномерного, единообразного наслаждения, подобного тому, которое испытываешь при дыхании. Они хотят пить вечность из первоисточника, а не из городских колодцев, хотят ощущать в себе беспредельность, избыть все временное. Они знают лишь вечный, а не социальный мир. Они не хотят изучать жизнь, не хотят ее побеждать, они хотят ощущать ее как бы обнаженной и ощущать как экстаз бытия.
Чуждые миру в силу любви к миру, нереальные в силу страсти к реальному, герои Достоевского сперва кажутся несколько наивными. У них нет определенного направления, нет видимой цели: точно слепые или пьяные, шатаясь бродят по миру эти, все же взрослые люди. Они останавливаются, оглядываются, задают вопросы и бегут, не дождавшись ответа, дальше, в неизвестность. Кажется, что они только сейчас вступили в наш мир и не успели с ним освоиться. И люди Достоевского останутся непонятными, если не вспомнить, что они русские, дети народа, который из вековой, варварской тьмы свалился в гущу нашей европейской культуры. Оторванные от старой, патриархальной культуры, еще не освоившиеся с новой, стоят они на распутье, и неуверенность каждого из них — это неуверенность целого народа. Мы, европейцы, живем в наших старых традициях, как в теплом доме. Русский девятнадцатого столетия, эпохи Достоевского, сжег за собой деревянную избу варварской старины, но еще не построил нового дома. Все они вырваны с корнем и потеряли направление. Они обладают силой молодости, в их кулаках сила варваров, но инстинкт теряется в многообразии проблем, они не знают, за что им раньше взяться своими крепкими руками. Они берутся за все и никогда не бывают удовлетворены. Трагизм каждого героя Достоевского, каждый разлад и каждый тупик вытекает из судьбы всего народа. Россия в середине девятнадцатого столетия не знает, куда направить свои стопы: на запад или на восток, в Европу или в Азию, в Петербург, в «самый умышленный город на всем земном шаре», в культуру, или обратно, к крестьянскому хозяйству, в степь. Тургенев толкает ее вперед, Толстой назад. все в волнении. Царизм накануне анархии, православие, наследие древних времен, готово перескочить в самый неистовый атеизм. Ни в чем нет прочности, ничто не имеет своей цены, своего измерения в эту эпоху: сияние веры не озаряет чело, и закон давно угас в груди. Оторванные от великой традиции, герои Достоевского — настоящие русские, люди переходной эпохи, с хаосом начинаний в душе, отягощенные сомнениями и неуверенностью. Всегда они запуганы и забиты, всегда они чувствуют себя униженными и оскорбленными, — и все это единственно благодаря общему переживанию народа; они не знают, много ли, мало ли они стоят. Вечно они находятся на грани гордости и уничижения, самомнения и самопрезрения, вечно они оглядываются на других, и всех их гложет безумный страх перед возможностью быть смешными. Они беспрерывно стыдятся — то поношенного мехового воротника, то всего народа, — но вечно стыдятся, стыдятся; вечно они беспокойны, смущены. Их чувство, могучее чувство, не знает удержу, лишено руководства; никто из них не знает меры, закона, поддержки традиций, опоры унаследованного мировоззрения. Все они беспочвенны, беспомощны в незнакомом им мире. Все вопросы остаются без ответа, ни одна дорога не проложена. Все они люди переходной эпохи, нового начала мира. Каждый из них Кортец: позади — сожженные мосты, впереди — неизвестность.
Но вот что примечательно: так как они люди нового начала мира, в каждом из них снова рождается мир; все вопросы, уже застывшие у нас в холодных понятиях, еще кипят у них в крови; им неведомы наши удобные, протоптанные дороги с их моральными перилами и вехами, — всегда и везде они пробираются через чащу в безграничность, в беспредельность. Нигде нет башен достоверности, мостов доверия; всюду девственно-первобытный мир. Каждый в отдельности чувствует, что он, так же как в России Ленина и Троцкого, должен быть строителем нового мирового порядка, и неописуемое значение русского человека для Европы, оцепеневшей в оболочке своей культуры, в том, что тут неистощенная любознательность еще раз ставит вечности все вопросы жизни: там, где мы застыли в нашей цивилизации, другие еще охвачены пламенем. В творчестве Достоевского каждый герой наново решает все проблемы, сам окровавленными руками ставит межевые столбы добра и зла, каждый сам претворяет свой хаос в мир. Каждый герой у него слуга, глашатай нового Христа, мученик и провозвестник третьего царства. В них бродит еще изначальный хаос, но брезжит и заря первого дня, давшего свет земле, и предчувствие шестого дня, в который будет сотворен новый человек. Его герои прокладывают пути нового мира; роман Достоевского — миф о новом человеке и его рождении из лона русской души.