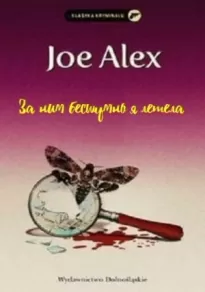Великий музыкант

- Автор: Гайто Газданов
- Жанр: Русская классическая проза
Читать книгу "Великий музыкант"
Самой поразительной и совершенно необъяснимой мне казалась большая слава, которой пользовался m-r Энжель, считавшийся одновременно и украшением адвокатского сословия, и гордостью парламентаризма, и носителем ясности и проницательности ума и многих других качеств. Сколь ни сомнительна была ценность этих качеств сама по себе — в том смысле, в каком ее понимали люди, писавшие о m-r Энжеле, — ни одно из них просто не было доступно для m-r Энжеля; помимо отсутствия в нем каких бы то ни было дарований, он находился на той первоначальной ступени культуры, когда сложные понятия еще неизвестны человеку — как непонятны тригонометрические формулы тому, кто знает только четыре правила арифметики. Но m-r Энжелю была свойственна особенная и наивная радость по поводу того, что он ощущал для самого себя возможность ошибочно им представляемого абстрактного мышления, понятие о котором было у m-r Энжеля весьма своеобразным: всякая высказываемая им мысль, не касавшаяся самых непосредственных вещей и потому носившая непривычный и даже несколько тревожный характер, казалась ему преодолением какой-то новой философской сущности. М-r Энжель говорил чаще всего общими местами — но это не казалось бесцветным; в то время как другие, более его культурные люди всегда несколько стеснялись, повторяя давно известные истины, и сопровождали их извинительными комментариями, — m-r Энжель высказывал их с громадным пафосом — и суждение, например, о том, что государство должно быть расчетливым, искренне считал своим собственным достижением, и выходило так, что без него, m-r Энжеля, мир ничего не знал бы об этом. Чудовищная невежественность m-r Энжеля, имевшего крайне смутные сведения даже в той области, которая составляла предмет его деятельности, — политике — только способствовала развитию этого безобидного самодовольства, настолько свойственного m-r Энжелю, что его нельзя было себе представить лишенным этого состояния. Меня поразил первый же разговор m-r Энжеля, который мне пришлось услышать.
— В своей речи в Авиньоне, — говорил m-r Энжель, — перед многотысячной аудиторией я открыто сказал: да, вопреки тому, что вам хотят внушить безответственные лидеры крайних партий, я продолжаю утверждать, что главная сила нации — в спокойствии и работе. Мне много аплодировали, так как я бессознательно выразил мнение всей страны.
— Но ведь это анекдот, — сказал я вполголоса Алексею Андреевичу, — этот человек смеется над нами.
— Нисколько, — ответил Алексей Андреевич.
— Главное мое достоинство… — продолжал m-r Энжель.
— Это просто ужасно, — шепотом сказал я Алексею Андреевичу, — неужели этот человек мог быть министром?
Шувалов улыбнулся.
— …это смелость всегда прямо говорить то, что я думаю.
— Вот единственная ваша фраза, в которой вы захотели скрыть от нас истину, — ответил Шувалов, не переставая улыбаться; Алексей Андреевич полагал, как он это мне заметил потом, что в последней своей фразе m-r Энжель действительно погрешил против истины, так как среди немногочисленных его возможностей возможность думать отсутствовала вовсе.
Но m-r Энжель смеялся и продолжал говорить. Он вообще и всегда был весел, ему нравилось все: и то, что он сенатор и кандидат в министры, и то, что с его мнением считаются в палате, и то, что гарсоны так услужливы и метрдотель до крайности любезен, и, наконец, то, что он, m-r Энжель, юн и богат. Он даже однажды, говоря об одной своей недавней ошибке, вызванной очередным увлечением, сказал: «Ну, знаете, мы, молодежь, всегда немного пересаливаем (m-r Энжелю было сорок шесть лет)». — «Да, конечно, молодежь…» — совершенно спокойно подтвердил Шувалов, и в ту же секунду я услышал рядом с собой почти беззвучное всхлипывание и увидел, что это смеется постоянный спутник m-r Энжеля, вернее, не самого m-r Энжеля, а его любовницы, Франсуа Терье, знаменитый писатель, автор «Джиоконды», «Смерти моего соседа» и еще нескольких книг, тираж которых достигал почти фантастических цифр. Именно по поводу Франсуа Терье у меня возник однажды спор с Алексеем Андреевичем, который защищал его от моей несправедливой, как он говорил, критики.
Книги Терье были хорошо написаны, критики неизменно называли их блестящими, в них даже было несколько идей. Но несчастье Франсуа заключалось в том, что, будучи чрезвычайно культурным человеком и прочтя много книг, он уже никогда не мог освободиться от их тяжести; на десяти страницах его «Джиоконды» я нашел несколько мест, очень похожих на почти аналогичные по содержанию места известных французских писателей, но Франсуа никто не обвинил в плагиате; у него была не очень хорошая память, он не сразу вспоминал, что читал, и был убежден, что все мысли, высказываемые им, его собственные; он забывал, что они были прочитаны им раньше; возникнув вторично в ряде идей, существенно непохожих на тот воспринимательный ряд, в котором он увидел их впервые, они производили впечатление чего-то совершенно нового. Этим невольным заимствованиям способствовало еще одно обстоятельство: Франсуа прекрасно знал английский и немецкий языки, и иногда, говоря в своей книге о каком-нибудь явлении, он находил для него прекрасные определения, звучавшие с необычайной убедительностью и свежестью и совершенно нехарактерные для собственного стиля Франсуа, талант которого, казалось, все обогащается; но печальная сущность этого внезапного расцвета слов, которые вдруг вырастали на страницах его романов чудесно и неожиданно — точно мгновенно поднимающиеся из земли колосья пшеницы, вызванные к жизни летаргическими глазами факира, — заключалась в том, что это были английские мысли, которые Франсуа услышал по-французски, забыв в экстатическом ослеплении, что его услужливый ум успел их перевести с одного языка на другой — незаметно для самого Франсуа. И эти же случайности определяли собой тот беспорядочный и смешанный характер, который носили отступления Франсуа: и общее впечатление от них походило на впечатление человека, зашедшего в лавку brocanteur[7] и увидевшего там самые разные предметы — начиная от шпаг времен Наполеона и кончая сломанным аппаратом радио. Нельзя было бы, однако, утверждать, что у Франсуа отсутствовал свой взгляд на вещи — он существовал, но это было худшее в произведениях Франсуа. Франсуа был прекрасным комментатором, но у него не было творческого дара, и собственный его стиль состоял в своеобразной смеси особенного, чисто французского сентиментализма с любовью к поверхностной парадоксальности. Я спорил об этом с Алексеем Андреевичем и в доказательство привел на память цитату из последнего романа Франсуа — которая казалась мне особенно для него характерной.
Спор происходил, как всегда, в кафе, музыка доходила до меня смягченной и измененной, потому что я думал в ту минуту о других, немузыкальных вещах, — и все же она, как всегда, звучала каким-то непостижимым напоминанием. «Всякое совершенство заключает в себе идею гибели, — сказал Шувалов, и мне показалось, что это начало его возражения пришло к нему из иных краев, где не могло быть спора о литературе. Но движение уже началось, Алексей Андреевич заговорил, и слова его, принявшие сначала такой нервный характер, стали постепенно возвращаться к подлинному своему сюжету, и уже секунду спустя он говорил так, точно этим рассуждениям ничто не предшествовало, точно не было ни напоминания, ни музыки и точно фраза о совершенстве и гибели не была сказана иным тоном и не появилась, как источник синего света, перенесенный из далекой страны, над которой он был, в нашу обычную, скучную и неправильную жизнь. — Конечно, никакая гибель Франсуа не угрожает. Он развил способности, данные ему природой, до необыкновенных размеров; правда, способности у него средние. Но ведь так бывает всегда — и в искусстве низшие организмы обладают чрезвычайной степенью приспособляемости».
Алексей Андреевич долго говорил о Франсуа, и защита его не переставала носить этот странный, почти издевательский характер. Я знал, однако, что этому впечатлению не следовало поддаваться: Алексей Андреевич действительно принимал Франсуа таким, каким он был, и никогда не стал бы резко его порицать, потому что существование искусства Франсуа было ему безразлично, как все остальное. Я был убежден, что, если бы Франсуа впал в нищету или умирал бы от неизлечимой и мучительной болезни, это не заставило бы Алексея Андреевича, говоря о нем, хоть немного изменить голос и задуматься на минуту и попытаться рассматривать Франсуа Терье иначе, чем низший организм в искусстве, жизнь которого представляется Алексею Андреевичу в известном смысле целесообразной и правильной, насколько вещи вообще могут быть целесообразны и правильны и насколько бесспорны эти понятия, то есть очень относительно.
— И я думаю… — сказал Алексей Андреевич и замолчал, оборвав фразу.
Когда я взглянул на него, стараясь найти в выражении его лица причину этой внезапной остановки, мне показалось, что неподвижные зрачки Алексея Андреевича внезапно расширились и потом так же сразу сузились. Я не был, однако, уверен в том, что ясно видел это, тем более что такая быстрая перемена была вовсе не свойственна Алексею Андреевичу. Не смотря на меня, он тронул меня за руку.
— Вот идет Великий музыкант, — сказал он не то с насмешкой, не то с удивлением.
В кафе входил, ведя под руку даму в манто с прекрасным белым меховым воротником, высокий человек, очень хорошо одетый, с сильно напудренным лицом и узкими глазами, которые он щурил, как-то особенно медленно поворачивая голову на тонкой и длинной, почти немужской шее. Он весь был очень длинный и узкий, и я сразу же подумал, что этот человек должен обладать необыкновенной гибкостью тела.
— Великий музыкант, — повторил Алексей Андреевич.
— Кто он такой? — спросил я.
Алексей Андреевич в нескольких словах рассказал мне то, что он знал о Великом музыканте, которого звали Ромуальд Карелли.
— Звучно, — сказал я.
По словам самого Карелли, он происходил из очень знатного рода, что казалось, однако, чрезвычайно сомнительным — незнание некоторых обязательных в таких случаях вещей тотчас же бросалось в глаза всякому внимательному человеку после недолгого разговора с Великим музыкантом. Подозрительное совершенство, с которым Ромуальд Карелли говорил на южнорусском языке, заставило меня даже высказать предположение, что родина Великого музыканта не Рим, не Милан, не Генуя, а скорее Купянск, или Харьков, или анекдотический Конотоп. Во всяком случае, точных сведений о происхождении Ромуальда не было ни у кого. Было характерно, что все познакомились с ним недавно — когда у него кончился тот период жизни, который предшествовал его появлению в Париже и в котором, наверное, было много интересного. Дама, с которой он пришел, была актрисой; и когда Алексей Андреевич назвал мне ее фамилию, я вспомнил о той полускандальной известности, которой она пользовалась несколько лет тому назад. Она была близка к одному крупному американскому финансисту, скоропостижно умершему в обстоятельствах, несколько похожих на те, в которых умер генерал Скобелев; американец оставил ей половину своего состояния. После его смерти она три года провела в монастыре, затем вновь появилась, дала несколько спектаклей и потом окончательно отказалась от сцены, уйдя всецело в «личную жизнь», как писали о ней газеты.