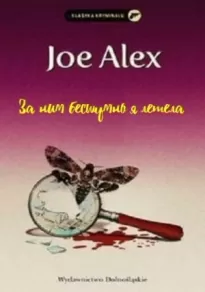Великий музыкант

- Автор: Гайто Газданов
- Жанр: Русская классическая проза
Читать книгу "Великий музыкант"
То, о чем не хотел говорить Шувалов — и что мне казалось только неверным предположением, — то, в результате чего Алексей Андреевич сказал Франсуа — poor Jorik![29] — совершенно так же, как Франсуа в свое время сказал m-r Энжелю — mon pauvre ami[30], — то есть уход Елены Владимировны к Великому музыканту, — произошло в вечер концерта Шаляпина, на котором были мы все, но сидели в разных местах. Мы с Шуваловым были на балконе. Было множество народа, и громадный зал Плейель был полон разными людьми — начиная от первых рядов партера, где сидели мужчины в смокингах и фраках и дамы в вечерних туалетах, до последних рядов верхнего яруса, заполненных русскими фабричными рабочими — в однообразных синих костюмах, — рабочими с покрасневшими от крахмальных воротничков шеями и разбухшими пальцами. Рядом со мной сидел Лабик, самый знаменитый и модный из молодых французских композиторов. Он был одет в смокинг и белый жилет; и на его пухлом желтоватом лице было то презрительное выражение, делавшее его похожим на старого неудачника-актера, которое я знал давно и которое не покидало Лабика почти никогда; он сам считал, что оно делает его интересным, и такое заблуждение его вовсе не казалось мне удивительным, так как, будучи действительно талантливым композитором и чувствительным к музыке человеком, в остальном Лабик был ограничен, и круг его эстетических понятий, выходивших из области музыки, отличался некоторой узостью. И может быть, отчасти сознавая это — так как музыкально-душевные его способности иногда на короткое время могли превратиться в иные качества, необходимые для обычного интуитивного понимания, — он был «снобом» и даже педерастом, но не по физиологической потребности, а все из того же снобизма, несколько наивно им воспринятого. Была в нем еще одна черта, характерная для его ограниченности: он считал, что в мире царит латинский гений, — и, независимо от того, в какой степени это было правильно или неправильно, это его мнение всегда вызывало чувство неловкости у окружающих: Лабик был француз и как француз должен был высказывать другие взгляды, что было бы приличнее. Но Лабик этого не понимал.
Он сидел, откинувшись в своем кресле и подняв брови «усталым движением», как написал о нем один поэт, которого Лабик очень ценил, и Лабику особенно нравилось именно это выражение «усталое движение поднятых бровей», — осматривал своих соседей и, встретившись глазами с Шуваловым, наклонился вежливо и медленно, и создалось такое впечатление, что он бережно относится к каждому своему жесту, будь это поклон, или доставание папиросы из золотого портсигара, или еще что-нибудь. Рядом с ним находилась одна из его поклонниц, которой чрезвычайно льстило его соседство и которая поэтому нарочито громко и нарочито небрежно произносила все время: «Mais oui, mon cher ami, mais oui, mon cher ami»[31], — и нарочито не смотрела по сторонам, хотя знала, что на нее оглядываются; но «mon cher ami» она не переставала повторять и однажды это сказала после паузы, когда Лабик решительно ничего ей не говорил и ни с каким вопросом к ней не обращался; она сказала это по инерции, не будучи в силах отказать себе в удовольствии еще раз таким образом подчеркнуть свою близость с Лабиком.
— Заметили ли вы, насколько она непосредственна? — спросил меня Шувалов, не поворачивая головы.
— Да, очень проста, — сказал я.
Между тем внизу, на эстраде, уже заиграл пианист; он играл минут пятнадцать или двадцать, его слушали из вежливости и даже аплодировали ему. Но вот он кончил, и на эстраду широкими шагами вышел Шаляпин; тотчас же раздались аплодисменты, показавшиеся особенно оглушительными после тех, которыми зал только что наградил аккомпаниатора. Шаляпин остановился у рояля, на лице его было несколько задумчивое выражение; потом он стал напевать что-то про себя и слегка размахивать пальцами в такт тому, что он напевал; в зале стояла необыкновенная тишина, и тысячи людей с напряженным вниманием следили за каждым движением громадного человека на эстраде, погрузившегося в свою собственную музыкальную задумчивость, значение которой было так очевидно для всех, что никому в голову не могла прийти мысль ни о том, какой уверенностью должен обладать певец, чтобы так вести себя перед самой лучшей аудиторией мира, ни о том, что этого не позволил бы себе никто, кроме Шаляпина. Он сказал что-то аккомпаниатору, подошел ближе к рампе и сказал по-французски с русским акцентом:
— Numero cent quarante trois[32].
Тишина стала еще более ощутительной — и в ней тихо прозвучали первые ноты аккомпанемента, как первые капли дождя, упавшие на неподвижную поверхность воды, — и тотчас вслед за ними раздался голос Шаляпина. Несколько человек привстали со своих мест, не замечая этого. Как только Шаляпин начал петь, смутный страх и ожидание, томившие меня, исчезли: он пел именно так, как это было невозможно, и ни на минуту его единственный в мире голос не сходил с высот недостижимости — и мне сразу стало ясно, что до этого момента самые прекрасные тайны на земле были мне неизвестны и недоступны; я видел и слышал их сейчас, и они казались тем более исступленно-невозможными, что Шаляпин должен был кончить концерт, и после этого уже ничто не могло вновь вернуть мне способность этого созерцания и этого состояния души, которая вдруг потеряла все, что ей раньше принадлежало; и опустевшие пространства воспоминания и мысли наполнялись необычными звуками, отделявшимися от высокой черной фигуры на эстраде. После «Пророка» Шаляпин пел «Двух гренадеров»; и в голосе его, создававшем такой музыкальный мир, о котором, может быть, композитор и не мог, и не смел мечтать, слышались другие голоса и вещи, проходившие вне музыки. Рядом с собой я слышал, точно сквозь туман, странный шум, на который не обратил внимания. Но после того, как Шаляпин пропел:
…И встанет к тебе Император… —
сразу наполнив зал словно медленным звуковым океаном, я обернулся и увидел, что Лабик плакал, держа в руке у лица шелковый платок, фыркая и всхлипывая и забывая вытирать слезы; и презрительное выражение его лица сменилось выражением бессилия и умиленности, которые странно меняли его. И в глазах Алексея Андреевича я — в первый раз за все время — уловил переливавшуюся в них и исчезавшую тень сожаления; это было так непривычно и странно, что я не мог себе этого объяснить. Такое бессилие воображения было мне знакомо: оно бывало главным образом тогда, когда я следил за движением мысли на лице моего собеседника, потом видел неожиданное выражение, останавливавшееся на нем, — и не мог уже идти дальше: должно ли было объяснить это тем, что мысль моего собеседника, постепенно сгущавшаяся и перебиравшаяся сначала легкими и тонкими, потом все более плотными ощущениями, наконец совершенно поглощалась чувством, иррациональная природа которого оставалась мне недоступной, — этого я не знал. Но лицо Шувалова было настолько неподвижно, что невольно напоминало маску. «В конце концов, это понятно, — думал я. — Чем культурнее человек, тем он неподвижнее, тем глубже и вернее он знает, что чувства его все равно не могут найти внешнего выражения; и он поэтому присужден к той своеобразной немоте лица и рук, какой отличался Алексей Андреевич».
Он медленно поднялся со своего места, за ним встал я. Концерт уже кончился, но публика еще не расходилась, хлопала и кричала. Мы вышли из здания Плейель: автомобили загромождали улицу — все двигалось в струящемся от сильного ветра свете фонарей: автомобиль, в котором мы ехали, с трудом выбрался из улицы Faubourg St. Honore.
Мы первыми приехали в кафе; вслед за нами явился Сверлов, но ни Великого музыканта, ни Франсуа, ни Елены Владимировны не было.
— Странно, что их нет, — сказал Сверлов.
Никто ему не ответил. Прошло несколько минут; в них уже появилась смутная тревога. Она была почти неуловима, она, может быть, была ошибочна, как неверное предчувствие, но она все-таки существовала.
— Странно, что их нет, — повторил Борис Аркадьевич.
— Мне это не кажется странным, — ответил Шувалов.
— Почему?
— Потому, — сказал Шувалов нарочито, как мне показалось, рассеянным голосом, — что сегодня утром Елена Владимировна окончательно покинула Франсуа Терье и ушла к Ромуальду Карелли, Великому музыканту.
— А, — как будто издалека сказал Сверлов.
Мне кажется, именно в вечер после концерта Шаляпина я с особенной силой понял и почувствовал, что отныне все эти люди — Елена Владимировна, Франсуа, Ромуальд, Алексей Андреевич и Сверлов — связаны между собой такой тесной связью, судьба их так сплетена, что разрешить это могла бы только катастрофа. Я не мог представить себе, какой внешний вид примут дальнейшие события и что именно произойдет, но неизбежность важного и трагического случая была несомненной, хотя никаких неопровержимых оснований для этого как будто бы не было. Та к бывало иногда в двойном сне: мне снилось, например, что я попадаю в руки разбойников и человек со знакомым мне железным лицом приказывает меня убить. Тотчас же я думаю: но все это неправда, все это во сне, — и человек с железным лицом, отвечая на мою мысль, говорит: нет, ты видишь, это продолжается, значит, это не сон; шутить здесь не приходится. И я просыпался во второй раз. Та к было и тогда: я слушал речь Шувалова и видел лицо Бориса Аркадьевича и говорил себе: нет, этого не может быть; вот мы мирно сидим на бульваре Монпарнас и пьем кофе, и все мы, в сущности, неплохие люди; и зачем предполагать такие мрачные вещи? Но чувство, бывшее во мне, оказалось сильнее этих рассуждений; на музыкальных волнах незримого оркестра вдруг появилась курчавая голова алжирца-сутенера, застрелившегося несколько месяцев тому назад, как голова Иоанна на блюде Саломеи; только музыка могла создать во мне такой искусственный образ — музыка или звуковое воспоминание о голосе Великого музыканта; и все это точно подтверждало мое предчувствие и не давало ему успокоиться. Это продолжалось до тех пор, пока я не уловил вдруг знакомый мне мотив, которого я долго ждал, так как при первых его звуках я успокоился, как бы вернувшись от неведомых и опасных ощущений к любимой своей мысли — о море и о больших расстояниях. «Хорошо, — думал я, — даже если все это произойдет, то пусть будет так: все уйдет, исчезнет и изменится, но я останусь опять — с морем, и музыкой, и таким большим, холодным и снежным пространством, при мысли о котором у меня захватывает дух».
Это была успокоительная мысль, появлявшаяся всякий раз, когда слишком напряженное чувство требовало отдыха, — так бывало во всех трудных обстоятельствах и после чьей-нибудь смерти, например; и казалось странно, что такая почти бессодержательная мысль могла меня отвлекать и заполнять мое воображение на многие часы. Я помню, как умер один из самых близких мне людей, и я не знал, о чем мне думать и где найти во всем громадном количестве, во всей вселенной вещей, которые я мог себе представить, хоть одно небольшое место, куда не достигла бы мысль об этой смерти; и тогда я впервые стал думать о море, музыке и расстоянии — и это успокоило меня; раньше же я искал утешения в вещах личных и близких мне и потому непосредственно отразивших в себе мое чувство, а нужно было думать о больших и чуждых лично мне, о почти отвлеченных понятиях. Потом я неоднократно вспоминал об этом; и в силу привычки теперь эта мысль появлялась во мне, всплывая из глубины воспоминания и успокаивая меня.