Бобо
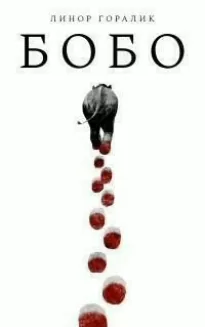
- Автор: Линор Горалик
- Жанр: Самиздат, сетевая литература
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Бобо"
— Всем отступить от слона!!!
Отступить они не отступили, но я почувствовал, что жадные руки по крайней мере перестали скользить и стучать по мне, и даже старик, прилипший к моей ноге, ослабил хватку, разжал объятия и тихо заплакал, понимая, что никогда больше не коснется рукой того, чего сам наш царь будет своей бесценной рукой касаться. Быстро-быстро подхватил его Мозельский под мышки и поднял на ноги, и толпа поглотила старика и вместе с ним тихо растаяла. Я увидел наконец Кузьму, все это время стоявшего, опершись на подводу, и что-то писавшего в своей кожаной тетради как ни в чем не бывало; увидел я и Сашеньку в сбившемся набок черном галстуке, и упаренного Мозельского, и потного Зорина, смотревшего на Кузьму с непонятным мне выражением.
— Хорошо работаешь, — сказал он Кузьме наконец, приглаживая волосы. — Реагирует народ.
— Стараюсь, спасибо, — сказал Кузьма, захлопывая тетрадь и бросая ее в подводу.
— Ты похуже не мог бы работать? — поинтересовался Зорин.
— Не для того мама растила свой цветочек, — обиженно сказал Кузьма. — А ты должен получше работать, тебя твой зал уж минут пятнадцать как ждет.
И пока мы с Толгатом питались, присоседившись на пустыре за гостиницей к нашей подводе (без особой, надо сказать, роскоши питались, но нас всех — и Катерину, с которой я, сердцем замирая, поделился, тоже, — после всего перенесенного более чем устраивала теплая и сладкая манная каша с хрустящими кислыми яблоками); пока Аслан, вернувшийся из музея, заполненного чучелами животного мира новой моей тревожной Родины, подробно и печально говорил о «великой славе русского троакара», явно теперь не дававшей ему покоя, — словом, пока мы кое-как отдыхали после этого дикого дня, видел я темные фигуры в освещенных окнах битком набитого гостиничного лобби: то слушали люди Зорина. Час прошел; они не расходились; ушел послушать и Аслан, хотя я сильно сомневался, что этого сушеного червяка хоть немного интересовала поэзия, — он шел погреться; верный Толгат мой остался со мною и, напялив на тонкий палец болтающийся наперсток, купленный в городе Крымске и украшенный соответствующими эмалями, стал чинить мои чуни, потому что предназначенные мне сапоги, как выяснилось к абсолютной ярости Кузьмы, были хоть и стачаны и вообще готовы, но, по словам ответственного за наш прием, «совсем не украшены» и потому отправили их перед самым нашим приходом аж в Тамбов — расшивать камнями и бисером «в лучшем виде», чтобы перед Его Величеством лицом в грязь не ударить. Бедные мои босые ноги тем временем мерзли невыносимо, и я наворачивал круги по пустырю на радость зевакам, на которых, однако, Сашенька, обнажив кобуру, строго поглядывал. Скучающий же Мозельский завел с Толгатом солидный разговор о женах и детишках — вернее, Мозельский рассказывал, а Толгат улыбался и кивал, сидя на краю подрагивающей подводы, в глубине которой невидимо копошилась Катерина, и я узнал из доносившихся до меня обрывков фраз, что у Мозельского близнецы, «мальчик и мальчик», и что оба те еще засранцы, а жена была огонь девка, а теперь — ну что, хорошая баба, и на том спасибо. Пробегая в очередной раз мимо ненавистных мне цистерн с проклятым формалином (которые уже почти придумал я, кстати, как ночью незаметно от подводы отцепить на радость Яблочку с Лаской, готовых пойти затем побыстрее, пока никто ничего не заметил), я вдруг почувствовал, что кто-то снизу дергает меня за ухо, и от неожиданности резко затормозил. Катерина стояла передо мной в длинном своем пуховичке, лысая голова ее была повязана платочком, волшебные глаза, от взгляда которых сердце мое превращалось в маленький, с кулачок бонобо, пульсирующий комочек, обращены были на Толгата.
— Толгат Батырович, а, Толгат Батырович, — попросила она, — а научите меня верхом ездить! Я ж с детства на лошадках, у нас лошади — как велосипеды, в каждом хозяйстве есть, хотите — распрягите любую, я покажу.
Ласка хмыкнула, а Яблочко сказал, кривя губу:
— Щас я ей так и покажу.
Толгат посмотрел на Мозельского, а Мозельский — на Сашеньку.
— Чё, порадуем публику? — спросил Мозельский весело, но неуверенно.
Сашенька осмотрел Катерину и сказал, покачав головой:
— Ох, Хоперская Катерина Ивановна две тысячи третьего года рождения, отец Хоперский Иван Данилович тысяча девятьсот восьмидесятого года рождения, мать Хоперская, в девичестве Кунцева, тысяча девятьсот восемьдесят второго года рождения… Не сидится вам спокойно?
— Хочется очень, — сказала Катерина жалобно. — Ну когда я еще на слоне покатаюсь? Никогда в жизни же! Ну пожалуйста! Один кружочек сделать!..
Того, что немедленно понял я, стоило ей сесть мне на загривок, не могли знать они: длинными-длинными были полы ее пуховика, и длинными-длинными были ее черные шерстяные чулки… Но я — я понял сразу, и от жара, накатившего на меня, и от оторопи, меня взявшей, я затряс ушами, как мальчишка, и закрыл глаза на секунду, всего на секунду, чтобы справиться со сбившимся дыханием, а когда открыл, она уже шептала, неожиданно теплыми пальцами одной руки держа меня за левое ухо, а другой гладя по шее, шептала быстро и горячо:
— Хоть ты и слон, а мужик, да? Мужи-и-и-ик… Я ж вижу, мой хороший, как ты на меня смотришь… Ты мой хороший, ты мой послушный, ты сейчас очень быстро побежишь, да? Вот туда побежишь, к гостинице, и прямо в двери! Двери высокие-высокие, ну давай похулиганим с тобой, да? Ты ж мужик, а я баба, ну чего нам не похулиганить, да?
И я побежал. Я побежал так, как бежал бы в бой, я побежал так, как побежал бы к самке, — господи, поймите, я никогда не бежал в бой, и я никогда не бежал к самке, а было мне всего шестнадцать лет, шестнадцать лет. Я нес ее на себе, легкую, совсем голую под этим ее задранным до колен пуховиком, и я был объят ужасом, и я знал, что всему конец, всему конец, — я царский слон, я нарушил дисциплину, и, когда все закончится, меня здесь, на этом самом пустыре за гостиницей, расстреляет Сашенька, и я даже знал как — одним выстрелом в глаз. Никогда не было у меня еще муста, но я знал в ту минуту, что это слаще, чем муст. Раздвижные двери гостиницы открылись перед нами; я вошел. Катерина начала дергать застрявшую молнию и рванула ее, и я понял, что молния раскрылась, потому что черный пуховик упал мне под правую ногу. Я не видел ее, но я увидел ее всю. Чего я не знал в этот миг — это что она украла у Толгата красную краску и вся ею перемазалась, кроме рук: одна рука была у нее желтая, а другая голубая, и в голубой руке держала она свою отрезанную косу.
Зал стоял к нам спиной, а сцена была прямо перед нами, и потому первым, кто увидел нас, был Зорин. Лицо его сделалось таким, словно его долго силком держали под водой и вот отпустили (а у султанят, резвившихся в саду кругом фонтана, была в ходу такая забава, и я знаю, что говорю). Рот его открывался все шире и шире, и тут Катерина двинула меня пятками за ушами, и я медленно-медленно, крошечными шажками пошел вперед, не смея ослушаться ее и зная уже, что никогда и ни в чем не посмел бы я ослушаться ее, пошел обреченно, как смертник идет на казнь, — господи, да я и был смертник, — а сидящая у меня на спине смерть моя, размахивая страшной своей косой, принялась выкрикивать срывающимся голоском:
— Женщины — не трофеи! Женщины — не трофеи! Женщины — не трофеи!..
Пять минут спустя раздвижная дверь была по приказу Кузьмы накрепко заперта, а Сашенька с Мозельским выпускали присутствующих по одному через служебный вход, конфискуя у каждого телефон и любые другие средства съемки. Я шатался, голова моя раскалывалась, и я ждал приговора с чувством, что все это происходит не со мной, а с каким-то совершенно другим слоном. Я не понимал, как оказался здесь; не понимал, как может быть, что я смотрю на телевизор не через окно; не понимал, как может быть, что за окном, собственно, идет снег с дождем и стоит черная, холодная, чужая мне апрельская ночь. Я был одновременно жив и мертв, но это не волновало меня. Я боялся только за нее, за нее; только ее судьба волновала меня. А она стояла, прижав маленькие побелевшие руки к груди, в перекрученном и съехавшем чулке, в застегнутом наглухо пуховике, который, как я теперь заметил, был ей велик, и стучала зубами в тепле гостиничного лобби и пыталась дерзко смотреть на Кузьму, а Кузьма почему-то смотрел на Сашеньку.
— Интересный вы кадр, Хоперская Катерина Ивановна, выпускница средней школы номер два дробь двести восемнадцать, — сказал наконец задумчиво Сашенька, склонив голову и глядя на Катерину своими пушистыми глазами. — Очень интересный и даже в чем-то образцово-показательный. Думаю, нас с вами ждут долгие задушевные разговоры к большой обоюдной пользе.
Глава 8. Новочеркасск
Я понял, чтó Кузьма пишет и пишет в своей кожаной тетради, пишет и пишет: это доклад. Он собирается все Ему рассказать; не может быть, чтобы он знал и про замерзших детей, и про хрустящие кости, и про бог весть что еще, творящееся Его именем. Я понял, что все больше думаю о том, какими людьми он окружен. Я знаю нескольких из них, конечно, — я видел их по телевизору много-много раз, они всегда представлялись мне людьми преданными и честными и, конечно, верными Ему до последней капли крови, — но, господи помилуй, какой груз тревог и забот лежит на их плечах! Ремонтируя мои чунечки, Толгат что-то ужасное с ними сотворил, они словно меньше стали, а может, ноги у меня совсем распухли от бесконечной ходьбы, и я еле брел в этот утренний час, и каждый шаг мой отдавался в ступнях огнем и болью, и думы мои тоже словно бы вертелись в голове огненными, больными шарами, и я не слушал даже, как огрызается Катерина в ответ на ласковые Сашенькины вопросы, — вместо этого я, вопреки своей воле и своему сопротивлению, постоянно возвращался мыслями к старой зебре Гербере, к ее вечно слезящимся глазам, к вечно топчущимся на месте расщепленным копытам и к вечному, непрекращающемуся потоку сплетен, что изливался из ее пахнущего гнилой соломой рта со стертыми коричневыми зубами. Герберину болтовню мог выносить только мой мудрый Мурат — и не просто выносить, но поддерживать: Гербера знала все обо всех в султанском дворце, знала так хорошо, словно была вхожа и в гарем, и в купальни, и в личную султана нашего столовую комнату, потому что вечно подслушивала, вынюхивала, заглядывала в окна и шлялась у фонтана, а Мурат, интересовавшийся политикой не меньше, чем физикой и анатомией, полагал, что политика начинается в спальнях и на кухнях. Я же при появлении Герберы в поле нашего с Муратом зрения малодушно бросал друга и ретировался в направлении жирафов, и мы с красавицей Козочкой принимались, признаюсь честно, перемывать полосатой старухе кости и посмеиваться над вечно свисающими у нее из-под хвоста застарелыми кусочками кала. Но Мурат был с полосатихой вежлив и даже галантен, всегда благодарил ее за сведения, которые называл «чрезвычайно интересными», и регулярно пытался рассуждать со мной о том, как наши министры и наложницы, подавальщицы и советники формируют, по его словам, «государственную повестку». Я старался слушать, я кивал и поддакивал, ужасался и заканчивал вместе с Муратом его возмущенные фразы, но, к стыду моему, через несколько минут даже на самом прохладном ветерке начинал страдать от духоты и уноситься фантазиями то к ужину, то к тому моменту, когда придет Толгат чистить мне уши от пыли травяными мешочками, то к завтрашнему полуденному часу, если было у меня условлено в районе полудня поплескаться в грязи с юным бегемотом Биньямином. Мурат замечал это и щадил меня, переводя разговор на простые предметы, вроде запутанной личной жизни красных панд, чьи семейные драмы были для всех нас источником большого удовольствия; но кое-что из его уроков я усвоил, и усвоил хорошо: признаюсь, когда стало мне известно, что новая Родина ожидает меня, вместе со страхом и трепетом родилось во мне и сильнейшее облегчение — я жаждал служить государю, окруженному людьми преданными, честными и верными, я жаждал вырваться из этой самой духоты… Однако сейчас, бредя холодною зарею по какой-то узкой, слишком узкой для меня тропе вслед за едва протискивающейся между дерев подводой и стараясь ставить ноги как можно шире, чтобы внутренние швы чуней не так давили на мозоли, кое-как заклеенные огромными кусками пластыря, я со страшною тоской думал, что лишь одно объяснение есть происходящему вокруг меня: он не знает, Ему не докладывают всего, сам же он, обремененный делами государственной важности, знать всего, разумеется, не может. Значило это, что только на нас с Кузьмой и остается у него надежда: на Кузьму с докладом в кожаной тетради да на меня, который жизнь положит на охрану Его от негодяев, Его именем творящих преступления. Мать мою однажды чуть не казнили ее же солдаты за то, что она встала ногой на голову спящего человека из их числа и убила его; непонятно было, что с ней произошло, пока на теле этого человека не обнаружили донесение от врага: то был тайный предатель. А ведь мать тогда была совсем юна, юнее меня, и, как я сам, первый год служила и еще плакала о своем стаде по ночам.





