Бобо
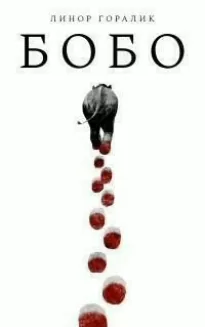
- Автор: Линор Горалик
- Жанр: Самиздат, сетевая литература
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Бобо"
— А русские, конечно, не могут, — сказал Кузьма и снова поглядел на небо.
— Это сарказм? — холодно поинтересовался Зорин.
— Упаси бог, — сказал Кузьма и похлопал его по плечу. — Если они могут — это как же жить? Это же нам умереть надо, правда, Зорин?
И на этих словах Кузьма, развернувшись, быстро зашагал к прозрачному тенту, к курящим мужчинам, и попросил у одного из них сигарету, и я впервые увидел, как у Кузьмы из носа выходят два длинных дымных бивня. Зорин же остался стоять, где стоял, и больше не глядел в сторону «Ивушки» и, когда подошли к нему две хорошенькие молодые матери с колясками за очередными автографами, не стал, против своего обыкновения, спрашивать у них имена, а поставил прямо на обложках протянутых ему книжек неловкие закорюки и, подойдя к сугробу, разрыл немножко то, что лежало сверху, и стал чистым снегом тереть себе лицо, пока оно не покраснело. Я же все это время стоял в недоумении: мне казалось, когда русские доказывают миру, что могут то или это (пусть я и не вполне понял, что именно), новость такого рода должна считаться скорее хорошей, чем плохой, и воспринимать ее стоит как повод для гордости; досада Зорина — и досада явно чрезвычайная — вызвала у меня растерянность, но и Кузьма явно был этой новости совершенно не рад. Вдруг ужасно, до зуда в черепной моей коробке, захотелось мне понять, что произошло, так что я и сам поглядел сперва в сторону кафе «Ивушка», а потом в сторону прозрачного тента и подумал о том, что минут десять есть у меня: окна у «Ивушки» были низкие, и побегú я сейчас через дорогу, замри я под этими окнами и не давай я сдвинуть себя с места, может, и удалось бы мне что-нибудь увидеть, в чем-нибудь самому разобраться… Я осмотрелся, как мог, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания: Толгат, не глядя на меня, а вместо того безотрывно глядя на копошащихся за прозрачными стенами детей, пил чай из белого мягкого стаканчика у маленького столика с бутербродами, улыбаясь и постоянно кивая какой-то официальной девушке, которая в длинном узком пуховике (тут вдруг стало мне дурно — но только на секунду, на одну-единственную секунду) походила на розовую гусеницу (все, все, отпустило). День был воскресный; редко какая машина проезжала по дороге, от которой отделяли меня только парковые невысокие кусты; либо бежать, либо нет. И я побежал.
Телевизоров в «Ивушке» оказалось два, но только один был развернут к окну. Все оказалось напрасно: плясали в телевизоре какие-то наряженные в кружево и кожу девахи, а одна из них, главная, так широко разевала рот, словно пыталась вывернуться наизнанку, и, когда прибежали за мной, размахивая руками, Зорин и Сашенька и пара самых жадных камер (которым Зорин тут же показал, где их место на этом свете), я и сам уже брел назад. И росла, росла во мне обида, и то была обида на всех — и на Зорина, и на загадочного для меня Сашеньку, все больше напоминавшего мне ласкового, страшного нашего главного евнуха, и даже на бедного моего Толгата, который явно все, в отличие от меня, понимал, но больше всего, конечно, на Кузьму Кулинина. Да почему же никого из них не заботит состояние мое?! Почему никто не задается вопросом, каково мне приходится, а все они только о том пекутся, чтобы я был относительно сыт, насколько можно здоров и более или менее чист, когда есть где меня шлангом искупать или хотя бы снегом обтереть?! Душа моя мечется в растерянности, и вот прямо сейчас чувствую я себя чужим, чужим в своей стране, таким далеким от народа ее, словно снится мне в тяжелом странном сне этот народ, а ведь мне служить ему предстоит и, может быть, голову свою на этой службе сложить! Кто думает об этом? Кто хоть раз спросил себя: «Как ему, Бобо, дышится русским воздухом, нормально ли ему спится, о чем ему думается?» Может, Толгат и чувствует, что сердце мое места себе в груди не находит; от Аслана я добра не жду, Зорин меня, кажется, за бессмысленное животное держит, Мозельский у меня сейчас на хорошем счету, а Сашенька… Сашенька — это отдельный разговор, и я бы, честно говоря, предпочел, чтобы Сашенька-то как раз думал обо мне поменьше. Но ты, Кузьма Кулинин, ты, ты — ты бы мог и другим человеком оказаться; я знаю, ты способен мне в глаза заглянуть, так что же ты в небо смотришь и дымные бивни из носа пускаешь? И почему ты, Кузьма Кулинин, — думал я, когда подводили меня уже к самому тенту, где выстроились в шеренгу ребятишки с рисунками в руках и мамочками за спинами, — почему ты вечно ведешь себя так, словно ты у нас во всем главный, главнее никого нет? Ты, может, и начальник нашей экспедиции, а только не было бы меня — и экспедиции бы не было; ради меня мы идем и ради меня все тяготы пути терпим, и если бы не я — никогда бы не подобраться тебе к Его уху с твоими большими планами.
А ты смотришь на меня, Кузьма Кулинин, словно я собачка дрессированная, и улыбаешься всеми зубами Матвею Юрьевичу, который что-то там вещает в сипящий и сопящий микрофон, и сам к микрофону идешь и не сомневаешься, что я, как дрессированной собачке и положено, буду сейчас специальный приз безропотно выбирать. Ну так я тебе устрою, Кузьма Кулинин, представление — как начну тянуть, как примусь ходить вдоль этой шеренги с рисунками, пока мне самому не надоест… Вот я раз прошел… И второй прошел… Смеются. Даже взобравшийся на меня Толгат смеется, как будто я бы без него не справился. А вот я на третий раз зашел и на четвертый зайду! Смеются, но уже послабее… Толгат меня начал пятками попинывать, а Кузьма в микрофон говорит: вот, мол, она, волшебная сила наивного искусства, — наш Бобо, дорогие богучарцы, находится под таким сильным впечатлением, что не может выбрать лучшее из всех! Опять смеются. А вот я вам выберу… Сейчас вгляжусь и как выберу… Ишь, подготовились: на каждом листе напечатали рамочку «Zа российскую семью!» и даже место для подписи обозначили… И все рисунки на одно лицо: мама поменьше, папа побольше… Мама поменьше, папа побольше… О, братик обнаружился… На половине солнышко, на половине снег, а у самых умников и снег, и солнышко: над папой, значит, снег, а над мамой солнышко — когда они его видели последний раз, это солнышко… О апрель, русский апрель… И только здесь что-то… Что-то, не понимаю что… Не то ромб, не то квадрат. Коричневое. Сверху такое коричневое, а под ним паровоз зеленый, буквы написаны кривоватые — «Нвчеркаск». Рядом с паровозом женщина серая, в углу мальчик красный, маленький-маленький… Отдай. Не выпускает из рук, держит — кажется, боится меня. Нет, не боится, заглядывает мне в глаз, просто растерялся совсем, замер, забыл про рисунок. Тогда женщина у него из-за спины протягивает руку, осторожно разжимает ему маленькие пальцы в смешной варежке домашней вязки. Беру рисунок, несу. Вот, Кузьма, держи. Кузьма, не глядя, поднимает рисунок над головой, все хлопают, Кузьма заявляет, что у нас есть обладатель специального приза от нашего дорогого искусствоведа Бобо и сейчас мы узнаем его имя, поворачивает рисунок к себе, и я вижу, как рука его с рисунком начинает трястись, и трястись начинает его рука с микрофоном. Мальчик уже семенит туда, к сцене, ровно стоит, вытянувшись по струночке, его мама — точно там, где стояла, и Кузьма быстро, легко перехватывает мальчика за плечо уже у самого микрофона и громко, с хрипотцой, говорит:
— Поаплодируем все Илюше Завгороду из третьего класса «Б» двадцать четвертой школы и передадим микрофон Наталье Зайдовне Эмме, замечательному специалисту, которая и огласит имена трех наших главных победителей и вручит им ценные подарки от мэрии и наших прекрасных спонсоров!
О, как он посмотрел на меня, Кузьма Кулинин, как посмотрел, пока вел обратно к маме Илюшу Завгорода, вжавшего в курточку свой рисунок, — а я и не знаю, что такого я сделал! Вот они встали друг перед другом, Кузьма и маленькая Илюшина мама, и вдруг Кузьма наклонился, взял мамину полную бледную руку, и поцеловал ее молча, и отпустил, и стал смотреть на серую плитку у себя под ногами. И тогда эта женщина сказала:
— Я знаю, вы там были. Вы были в Новочеркасске. Наш папа там работал.
— Я там был, — сказал Кузьма и поднял голову — как мне показалось, с большим трудом.
— Только в четверг они нам гроб привезли, — сказала она спокойно. — Я Илюше все объяснила. Но если вам есть что ему сказать — вы скажите.
Кузьма молчал.
— А если нет, то это необязательно, — легко прибавила женщина.
Тогда Кузьма сел перед Илюшей на корточки, улыбнулся медленно и широко и спросил:
— Илюша, хочешь на слоне покататься? — но смотрел при этом не на Илюшу, а на Илюшину маму.
Илюшина мама доброжелательно склонила большую кудрявую голову, и еще час с лишним катали мы детей по этой самой площади, по маленькой площади, с которой для простору убрали даже прозрачный тент, и всем Кузьма разрешил фотографироваться со мною, как они только захотят, а камеры, наоборот, прогнал, и очень сокрушался Матвей Юрьевич, когда внезапно выяснилось, что Зорин очень голоден и надо немедленно сопровождать великого современника на обед, причем обязательно с рыбными блюдами, другое Зорина не устраивает, так что официальным представителям никак не удастся сделать фотографии для городского сайта. И все это время только на меня смотрел Кузьма Кулинин, на меня одного, а я не смотрел на Кузьму Кулинина вовсе.
К моменту, когда последний ребенок, воя и протягивая ко мне руки, был уведен с площади, ноги мои больше не шли — от боли в потрескавшихся ступнях я готов был и сам завыть. В конный клуб мы вернулись уже затемно, так я хромал; Яблочко же рвался вперед, гонимый тревогой за любимую, и принес на место Сашеньку с Мозельским задолго до нас. Пока я ел — снова сено, но в него, к счастью, щедро покидали яблок и бананов, принесли для меня три разрезанных приличных на вкус арбуза, а отдельно поставили мне таз с размоченными в молоке сладкими булками, так что я не особо жаловался на жизнь, — Яблочко с облегчением рассказал мне, что Ласка все еще лежит, но операция прошла хорошо, гноя выпущено много, и теперь уколы антибиотиков должны начать действовать. Я принял эти новости с удовольствием, а заодно подивился самому себе: я твердо знал, что прежде одно слово «гной» испортило бы мне аппетит на сутки, теперь же и весь разговор о медицинских подробностях Ласкиной операции, о швах ее и перевязках питаться мне не мешал, и счастлив был я, что с подругою нашей все настолько хорошо, насколько в ее обстоятельствах быть может. Это очень обрадовало меня — я подумал, что так проявляется во мне, по всей видимости, боевая жилка и дух мой крепчает, делая меня все более пригодным для той участи, которой я был предназначен. Ах, дурак я был, дурак!
После еды не один я обессилел: никто из нас оказался не способен к переходу до гостиницы, и ночевать было решено прямо здесь, в клубе, расположившись на диванах в офисе, на подводе или в теплых стойлах. Стойла очень даже устраивали меня: лошадки принимали мою особу с большим почтением, которое внушала им моя величина и мой статус иностранца, очень в России почитаемый. На ночь рядом со мною, накидав побольше сена, стал устраиваться Толгат, но стоило ему обложиться всем необходимым для плетения моих лапоточков, как пришел, обтирая рот после ужина, Кузьма, а за ним, вся закутанная в шали, стелилась, похлопывая русскими варежками, оказавшимися, видимо, теплее щегольских перчаток, сутулая тень — Аслан. Посматривали эти двое друг на друга так, словно между ними намечалась секретная связь, во что я, впрочем, с первой же секунды отказался верить.





