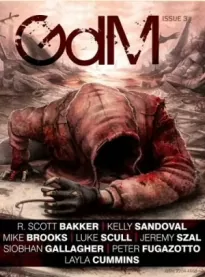Чапаев. Мятеж

- Автор: Дмитрий Фурманов
- Жанр: Советская проза
- Дата выхода: 1985
Читать книгу "Чапаев. Мятеж"
Другие урезонивали и до подхода 26-го полка не решались на этот шаг, зато крепость захватить считали весьма полезным:
во-первых – прибрать в ней к рукам оружие;
во-вторых – укрепиться, приготовиться к встрече;
в-третьих – подогреть на выступление остальные части;
наконец – разбудить деревни, привлечь и вовлечь сразу в дело массу крестьянства.
Со своей точки, правы были, конечно, первые. В интересах восставших надо было действовать решительно уже с первого момента. Что-нибудь одно: или у штадива есть силы – и тогда от сил этих не укроешься в крепости, ожидая 26-й полк; или у штадива нет достаточных сил – и тогда зачем ждать подхода новых сил, когда управишься легко и теми, что есть налицо? Правы были первые: быстрым ударом надо было грохнуть на штадив, нас всех арестовать, а может быть, и расстрелять. Власть захватить немедля и полностью, произвести массовые аресты, заявить о единой собственной власти, – словом, всем и во всем показать, что за тобой победа! А мятежники – так они сделали? Ничего подобного: они только наполовину заявили о своей победе, а дальше – открыли с нами целую серию переговоров и совещаний, как в тину, затянули себя в споры и обсужденья, в этой тине сами и увязли. Мы их в эту тину усиленно тащили, ибо при данных обстоятельствах только здесь было наше спасение, спасение нашего дела. Мятежники выступили с грозными словами, но грозных дел совершить не сумели. Их сбивало с толку предположение, что в особом, у нас и в трибунале – много сил: недаром после того как вооружились они награбленным из транспорта оружием и готовы были идти из казарм в крепость, выслали сначала сильные дозоры к особому и трибуналу – ждали оттуда удара.
Но удара не было. Тихо, без криков, без песен походных, чуть позванивая оружием – проходили они в густом мраке ночи, рота за ротой, в крепость. Там разбили склады, растащили из них оружие. Стража крепостная и не подумала сопротивляться – посторонилась, дала дорогу, а потом и сама присоединилась к восставшим.
Как только вошли – эх, забегали, шныряя по всем углам, загалдели, вверх дном кувырнули тихую жизнь крепости, врезали в глухое безмолвие ночи лязг, и свист, и ржанье коней, и крикливую обжигающую брань. Взвыла, заржала, застонала, зазвенела июльская ночь. Во взбаламученной крепости один за другим все быстрей нарастали, все грозней завывали пенные, мятежные валы.
В крепости, в центре людского потока, – Петров и Караваев.
Петров – коренаст, крутобок, детина атлетический. Небольшая голова, стриженная накругло, посажена глубоко и плотно в мускулистые, тяжелые плечи. Ладонь – как лопата: широченная. Ноги коротки, но крепки и жилисты, легко бросают корпус на ходу. Вся фигура, как слитая, словно осаженная в землю, ядреная, выносливая. В сощуренных хитрых зеленых глазках – мысль, а за мыслью дрожит и бьется беспощадная звериная жестокость. Фронтовик. В бою – боец, неустрашимый рубака. В кругу товарищей – скандалист, забияка, выпить не дурак, охотник пображничать.
Во всем под стать ему Караваев – забулдыжная, лихая голова: этому ничто нипочем. Недаром из песни самое у него любимое:
«Все отдам – не пожалею».
И это верно. В бою – и храбр, и находчив, и выручит в беде, и жизнь отдаст вгорячах – не пожалеет.
А вот тихую, без грома боевого жизнь и любит и не отдаст без слез, станет просить, как просил потом на суде:
– Пощадите. Простите. Исправлюсь. Смою пятно. Клянусь…
Ростом низок, крепко скроен Караваев, как барсук. Широкоплеч. Жилист и гибок, в движенье ловок, словно джигит. И на коне, как джигит, – ему конь с седлом, что мяснику табуретка: верное место. Черные волосы сухи, густы и жестки. Низкий лоб не сулит добра. Хищные зубы из-под багровых обветренных губ – так сверкнут за лукавой улыбкой, аж жуть берет: глотку прогрызет и кровь всю высосет. Вампир. Над губами – словно зола понасыпана, приютились короткие темные усики; под ними, как бык в стену лбом, уперся в грудь непокорный, крутой подбородок. В черных хитрецких глазах – и забубенная радость жизни, ухарский пляс под рыдающую гармошку, и безумная, грани не знающая удаль, всепожирающая, страстная отвага. Говор караваевский – чистый, трескучий, торопливый говорок. Лукавая, насмешливая улыбка все сбивает с толку, и не знаешь: правду говорит или глумится, свое держит на уме Караваев. Он с Петровым подымал казармы, это они строили ночью в строй красноармейцев, подбрасывали винтовки, отсчитывали патроны, слали дозоры в разные стороны и вели на крепость, подвели, ввели и там всю суматоху кружили вокруг себя.
К ним в батальон приходил Чеусов, из «коммунистов», работал в милиции, был начальством. Не боялись его восставшие, знали, что за «коммунист»: с такими коммунистами можно…
Чеусов говорил про свои нужды, про несчастия милиции, про пакостное начальство, что наехало из центра, поддакивал насчет «страдающих без вины красноармейцев», которых-де притесняют и насилуют, и загоняют, охал и ахал вместе с казармами, проклинал и крыл на чем свет стоит разные «верхи». Словом, был у них «свой человек». И нужный человек.
Годов ему тридцать пять – тридцать восемь. На желтом сухом лице свинцом отливают карие остывшие глаза. Темно-русые негустые волосы над высоким, просторным лбом. Темно-русые, пышно-пуховые усы – он их ладонью то и дело вздыбливает из-под губ. В движениях медлителен и раздумчив, не быстр и в решениях, но может вскипеть негодованием – тогда ударит сплеча. Грамотность небольшая, о ней не беспокоится, живет не ученьем, а больше своими мыслями и тем, что видит-слышит кругом: это запоминает и понимает быстро. Чеусов приходил в казармы, знал, куда идут красноармейцы, но с ними не пошел – пришел прямо в крепость. И как пришел – за дело: речи, речи, речи, разговоры разные, советы, указанья, – вошел в дело плотно, учуял, обсмаковал, взялся за вожжи.
В батальоне 27-го, в Джаркентском, когда он выступал, было много чужого народу – вооружали всех набежавших: тут были одиночки комендантской команды штадива, были из батальона 25-го полка, что здесь стоял, было много ребят из караульного батальона. Из караульного же были Вуйчич и Букин. Оба играли потом немалую роль.
В Туркестане по местам, иссохшим от зноя, растет корявое, сучковатое, изгорбленное дерево: саксаул.
Вуйчич напоминал саксаул: так был неуклюж, тощ и высок и согнут-перегнут в разные стороны, словно кто-то ломал его и не сломал вовсе, а только перекрутил как железный прут.
Красноармейские иссаленные, во все цвета заштопанные штаны, как на шесте мешок, болтались на худых долгих ногах, сползая, словно хвостиками, двумя подвязками на босые широкие грязные ступни с черными и, верно уж, вонючими, пропотелыми пальцами. Рубашка коротка ему, долговязому: чуть прикрыла пуп и влезла рукавами на самые локти тонких, сухих, нездоровых рук. Руками на ходу бестолково болтает, как плетьми. Голова, словно птичья головка: шустрая, мелкая, беспокойная. Волосенки жидкие – то ли русы, то ли рыжи – видно, что голову наспех у забора обдергивали-стригли полковые ножницы. Лицо у Вуйчича в густых, заплесневелых веснушках, желто-буры впалые, иссохшие щеки, нос – разваренной картошкой, длинна по-гусиному сальная потная шея: верно, чахоточный. Глаза мертвы, тусклы, невеселы, никогда не веселы, и никогда им не сверкнуть, как сверкнут волчьи караваевские, – у Вуйчича словно налили под веки мутную густую влагу, и глаза в ней беспомощно завязли, затонули, обессилели и чуть ворочаются в глубоких орбитах: медленно, зловеще, налиты злобой и непокорностью, буйволиным упрямством.
Неотлучно с Вуйчичем – Тегнеряднов. Молодой парень, лет что-нибудь под двадцать пять. Лицо как лицо: средних качеств, сразу не бросается, ничем не выделяется из тысячи других. Быстрые движенья, быстрая речь, настойчивая жестикуляция – все говорит о молодой, неизрасходованной силе. Молодость – это первое, чем веяло от Тегнеряднова. От молодости и его энергия: прет наружу свежая силища, здоровье не тронуто жизненным искусом. Тегнеряднов равнялся по Вуйчичу: тот надумывал и говорил, Тегнеряднов делал, исполнял. Они все время вместе. Один был нужен другому.
Из карбатальона был и Букин.
Страшилище. Чудище. Пугало. Росту голиафского. Широты в плечах – соответственной. Рыжие густущие усищи – словно крылья мельницы: размашистые, большущие, шевелятся, как живые. Это не пышные чеусовские игрушки, а настоящие голиафские, серьезные усы, на которых легко провисеть полчаса трехлетнему ребенку. И где-то в деревне у Букина в самом деле был такой Алешка-сынишка, которого так любил он брать в неуклюжие могучие руки, когда цеплялся тот за отцовские усы, вздымал над головой и дико ревел пьяной октавой – под беспомощный плач сухощавой, малокровной, перепуганной жены.
– Алешка, Алешка, сукин сын… Возьму вот тебя, мать твою раскроши, как шмякну об пол – ничего не останется… У… у… гу… подлец…
И он ласкал его рыжими крыльями-усами, а Алешка плакал навзрыд от боли и со смертельного перепуга от ласковых отцовских слов.
Возле Букина всегда было стоять как будто страшновато: хватит вот сверху кулачищем по башке и – конец. Тут и поляжешь бесславно костьми. Его большущая круглая голова, все черты его здоровенного буро-матового лица, каждое движение увесистой коряги-руки так тебе и говорили:
«Лучше не тронь. Не тронь, говорю, а то вот кокну – и дух вон, лапти кверху».
На плоском, тупом лице – мясист и крепок обрубок-нос! Под самым носом густые усищи разжелтил табачищем: ежеминутно нюхает, прорва. Зубы – крокодильи: куда тут караваевские, – у того зубишки перед букинскими, словно перед волчьими у малого хорька: Букин сожрет и Караваева со всеми потрохами. И с зубами сожрет. Все переварит этакое пугало. Глаза букинские как будто темно-зеленые, но цвет их менялся от настроений: в ладном настроении они рассиропливаются в бледно-серые, а когда гневен Букин – темнеют глаза, грозовеют, как тучи, становятся мрачно-черны, наливаются страстной, звериной жадностью. В разговоре краток и крут. Не голос у Букина – рычанье хрипучее, а речь у него такая всегда увесистая, окончательная:
– Уб…б…бью св…в…в…вол…л…лчь.
– Рр…р…рас…с…стерзаю, под…длец…ц…ца…
От Букина все время пахло могилой.
Был с крепостниками Александр Щукин. Из офицеров. Но из сереньких офицеров, из тех, которые несли на себе «империалистическую»… Одно званье – что офицер, душком гнилым только чуть-чуть попахивал, а на деле остался сиволапым, заскорузлым, от земли. Он все хорохорился, гоношился, как петух, – всем и всеми был недоволен, в том числе и крепостными соратниками, все ему казалось, что везде и всякие дела идут и плохо, и медленно, и ведут-то их неумело:
– Эх, кабы мне всю волю, я бы…
Но всей воли ему не давали, а сам взять не умел: мелко плавал. Ростом Щукин мал, лицом серо-желт, глазами постоянно взволнованно-тороплив, движеньями непоседлив и суетлив, речью бессвязен, умом недалеко ушел: середняк, одно слово.
В крепости был потом комендантом, а брат его, Вася – так Вася и есть: Хренок-топорик, назвали мы его, когда попался потом в руки; толку незначительного, хотя и секретарствовал у восставших в боевом совете; трусок, мещанчик, мечтает о тихой жизни – в крепость попал за компанию с братом.