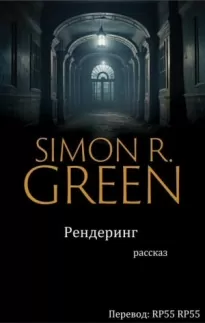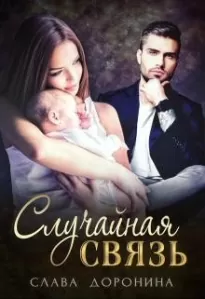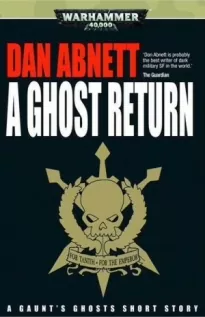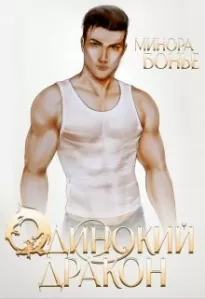Расщепление

- Автор: Тур Ульвен
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 2020
Читать книгу "Расщепление"
Позвонки с зияющими пустотами напоминают смеющиеся рты. Ты убираешь черный снимок в конверт, вместе с остальными, замечаешь, погладив подбородок, что небрит, смотришь на часы, смотришь на костыль, опять на часы, встаешь со стула при помощи костыля, извиваясь всем телом (артродез тазобедренного сустава функционирует удовлетворительно; предпочесть безболезненную неподвижность болезненной подвижности было правильным решением, думаешь ты), и ковыляешь к окну. Постепенно становится светлее, день снова вступает в свои права. Ночь в виде иссиня-черной набрякшей облачной гряды сдвинулась на север; молнии еще мелькают, но уже не ослепительными вспышками, а тонкими белыми световыми трещинами на черном небе, за несколько долгих секунд до громового раската; пламя вспыхивает почти одновременно с резким звуком, ложится горизонтально, трепещет, будто вымпел на корме катера (спичка соответствует флагштоку) и, взметнувшись (на какую-то сотую долю секунды), сникает и гаснет, оставляя лишь тонкий белесый дымок, рассеивающийся так быстро, что ты едва успеваешь его заметить: в руке у тебя обгоревшая спичка (вторая по счету), а твоя спутница так и не прикурила.
Что-то про огонь, ну да, по-английски, она пропела это сквозь смех, цитируя, вероятно, какой-то шлягер, слишком современный для того, чтобы ты в свои пятьдесят шесть его помнил (интересно, на сколько лет она, собственно, тебя моложе), но в темноте твое сконфуженное лицо, к счастью, не особенно заметно, во всяком случае сейчас, пока ты еще не исполнил задуманное, то есть не чиркнул новой спичкой (которая бы тебя осветила). На сей раз ты действуешь предусмотрительнее: достаешь спичку, покрепче зажимаешь коробок между большим и указательным пальцами правой руки (ты левша) и, не прерывая быстрого чиркающего движения, от которого выделяется достаточно тепла, чтобы воспламенить серу, заводишь спичку под коробок (с надписью «Два эре для лучшей жизни»),[8] в сложенную ладонь, где пламя озаряет розовую кожу и просвечивает сквозь пальцы, будто изнутри снежного фонаря;[9] этот огонек тоже опасно подрагивает, пока ты осторожно, будто ложку с лекарством, несешь его к ее лицу, она наклоняется и вы встречаетесь на полпути, она убирает волосы подальше от огня, так что, когда сигарета и пламя соприкасаются, вместо волос твою руку задевает вытянутая тяжелая серебряная серьга, которая слегка ударяет по коже, покачиваясь наподобие маятника, замирающего, а затем возобновляющего движение в тот миг, когда она выпрямляется и благодарит с некоторой, пожалуй, иронией в голосе. Она не курит, думаешь ты. Пока ветер не задул пламя, ты успеваешь прикурить и сам.
А все-таки, думаешь ты, неожиданно повеселев (и все еще навеселе), или, вернее, чувствуешь, поскольку мысль является (и улетучивается) так стремительно, что продумать детали ты не успеваешь (напоминает географическую карту без надписей): когда она задела твою руку этой, в сущности, совершенно посторонней для тебя вещицей, своей сережкой (а не волосами или даже своей рукой, как ты, может, надеялся), ты соприкоснулся с целым неведомым миром, то есть вот с этой ушной подвеской, выбранной по каким-то неизвестным тебе причинам (украшение тебе не нравится), однако такой выбор должен объясняться ее личным вкусом, связанным, в свою очередь, с глубинными индивидуальными чертами (ты предположил бы известную жажду внимания, возможно, некоторую экстравагантность), заставившими ее выбрать именно эту, а не какую-нибудь другую сережку и, в свою очередь, имеющими непосредственное отношение к ее, так сказать, внутренней сущности, включая так называемые иррациональные желания и влечения, уязвимые точки, страхи, или слабости, или готовность к проявлению агрессии, которые, в свою очередь, соотносятся со всей бесконечно сложной констелляцией детерминант, этим комариным роем главных и второстепенных богинь судьбы, чьими совместными усилиями человек и становится тем, кто он есть; но, так или иначе, какого мнения ни придерживайся о подобной выспренней ерунде, есть в этой женщине что-то такое, из-за чего в те две секунды ты едва не задрожал, нечто ошеломляюще чужое (вернее, женственное, притягательно чужое; будь она тебе противна, ты ощутил бы, скорее, только прилив отвращения), она была (и спустя две секунды все так же остается) незнакомкой, чей внутренний мир тебя не касается (как не касается тебя, к сожалению, и ее внутренний мир), зато сам ты, вполне возможно, скоро коснешься ее хотя бы снаружи (правда, ты охотнее прикоснулся бы к ее шее, чем к груди этой женщины); она спрашивает, над чем это ты смеешься, и ты, оставив свою сомнительную остроту при себе, отвечаешь: ни над чем, — но она настаивает: ни над чем не смеются, в каждой шутке есть доля правды, не надо мной ли ты там посмеивался, — и ты говоришь: да не было никакой шутки, а вот это я уж точно всерьез, — и, перехватив сигарету, свободной рукой обнимаешь спутницу за плечи. Она смеется, ничего не отвечая.
Сквер вымощен плиткой и окружен муниципальными клумбами, которые засажены отцветающими, загнивающими, усыхающими муниципальными цветами, насколько можно разглядеть в скупом свете муниципальных фонарей. Тем временем ваши сигареты докурены до самого фильтра или почти, и она бросает окурок на плитку не затаптывая (он падает на землю и сыплет искрами, а потом, прокатившись несколько сантиметров, застревает в щели между плитками), ты так же бросаешь свой и затаптываешь оба окурка. Когда вы останавливаетесь зачем-то у фонарного столба (к нему пристегнута тележка для развозки газет с большими резиновыми колесами), ты осторожно пытаешься поцеловать ее, воспользовавшись подходящим моментом; сначала попадаешь только в уголок рта, потому что она отвернулась, не проявив энтузиазма, зато следующая попытка оказывается успешной, по крайней мере сравнительно (целуя ее, ты забываешь свои мысли о том, каково было бы целовать ее), и, как только твой язык, будто палец зубного врача, начинает двигаться у нее во рту, образ ее лица (каким оно было за мгновение до поцелуя) исчезает, однако послеобраз, а точнее воспоминание о нем, продолжает как бы сочиться сквозь таящийся где-то в лабиринте мозговых извилин проектор: здоровый от свежего воздуха цвет лица, еще не растерявшего летний загар, необычно контрастирует с изящными тонкими (наверняка выщипанными) бровями (одну прерывает маленькая бородавка, странно, что она не удалила), тяжелые веки, которым как бы вторят эхом круги под глазами, или нет, зрачок — это будто брошенный в воду камень, от которого расходятся круги: сначала радужка, затем ресницы (верхние и нижние), потом веко и кожа вдоль нижнего края глаза, далее бровь и подглазный мешок и, наконец, едва заметные, сходящие на нет дугообразные морщинки над бровью и на скуле, далеко от центра; случись тебе стать камнем, тебя можно было бы бросить в эту воду, чтобы ты пропал навсегда.
Нет. Не в этих глазах. Глазах, которые остаются закрытыми, пока ты отстраняешь лицо после одного или нескольких поцелуев, сочтя, что они длились достаточно долго, глазах, которые в эту секунду открываются, моргая тебе навстречу, будто спросонья, а улыбка (то ли ласковая, то ли насмешливая) распространяется с губ на все лицо (снова эта ассоциация с кольцами на воде), и теперь, улыбаясь, она старится на глазах, ее лицо сминается, как пустой пакет или скорее поверхность залежавшегося в пакете хлеба, трескается, будто лак на старинной картине, тонкие ниточки морщин проступают откуда ни возьмись, думаешь ты, нет, откуда-то изнутри, будто содержались там изначально, всегда там были, думаешь ты, присутствовали там, у нее внутри, с самого рождения, просто в ранние годы их не видно, а со временем они (в буквальном смысле) просачиваются наружу, все больше и больше, бегут ручейками, стекают бесшумно по лицу, размывая его своими руслами, из неиссякаемого источника, бьющего под лицом, будто там, внутри, выходят на поверхность грунтовые воды самого времени, а может, испещренное бесчисленными морщинками старушечье лицо находилось там с самого начала, в сложившемся виде, во всех мелочах, просто молодость скрывала его плотными слоями обманчивого грима, который постепенно стирается, да, будто уместившееся между одутловатым сморщенным личиком младенца и опавшим, морщинистым старческим лицом время (один долгий выдох: срок жизни) составляло лишь quantite negligeable, незначительный промежуток, забытую уже интермедию, предварявшую появление нового младенца, чья рожица, таким образом, с непостижимой быстротой оборачивается очередной старческой физиономией (ты представляешь себе, как морщины и борозды возникают одновременно, будто трещины на валуне, в тысячную долю секунды между детонацией взрывчатки и разрушением камня), и так далее, в лихорадочном темпе, так что в конце концов уже не разобрать, кто первичен, старый человек или младенец, и чье лицо, старческое или младенческое, смотрит на зрителя в тот или иной момент, а может быть, оба сразу.
Но, пока ты разглядываешь ее уже не юное лицо, улыбающееся тебе (дерзко и вместе с тем смущенно) впотьмах, тебя мучит даже не увядание ее красоты (если эту женщину вообще можно назвать красивой), а осознание того факта, что твое собственное лицо подвержено аналогичному процессу (причем зашедшему еще дальше), но и здесь тебя гнетет не столько возможная утрата внешней привлекательности, сколько это опустошающее чувство чего-то несделанного, чего-то запоздалого, чего-то (неизвестно, правда, чего именно), что поздно менять, да и вообще поздно делать: тебе представляется нечто среднее между сновидением и сценой из фильма, ты бредешь по главной улице маленького городка, минуя магазины, которые один за другим закрываются у тебя за спиной, дверные замки, ставни и решетки на окнах, и ты, проходя все дальше, постепенно припоминаешь, что именно тебе было нужно, всякий раз нечто жизненно необходимое, и, хотя до последнего магазинчика еще далеко, ты заранее знаешь, что, пройдя весь город до противоположного конца пустынной, продуваемой ветром улицы, обязательно спохватишься, что у тебя нет вообще ничего, даже не ничего, а самого главного, ты обнаружишь отсутствие самого главного. Вот только такая воображаемая картина, притча, подразумевающая аллегорическую дистанцию, не может выразить той острой боли, которую причиняет тебе эта мысль.
Больно? Ты отвечаешь отрицательно, закусываешь губу и идешь дальше, прихрамывая из-за неловко ушибленного о газетную тележку колена. Она же настаивает, что надо подуть, закатывает твою штанину (ты вдруг чувствуешь ледяной ветер) и дует на ногу; удерживаемый (не ее физической силой, а собственной вежливостью) в ее руках, ты ощущаешь голенью холодный ветер позднего лета или ранней осени (но руки у нее, как ни странно, теплые, что, надо признать, приятно), осматриваешься кругом, поскольку отдаешь себе отчет в том, что староват для подобных глупостей, однако поблизости никого не видно, и ты кладешь руку ей на голову, разглядывая темные силуэты далеких холмов на фоне насыщенно-кобальтового неба на западе, где еще теплится последний отблеск дня, (как будто бы) спрессованный в бледную, лоснящуюся кромку, жирный краешек синей небесной свинины, понемногу придавливаемый огромным черным корытом напирающей сверху тьмы, пока день, эта сальная прослойка между холмами и небом, не исчезнет окончательно.