Алиби
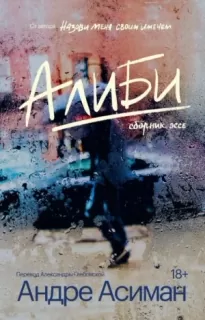
- Автор: Андре Асиман
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Алиби"
Повременить в таком контексте значит не просто изобрести способ материального или психологического выживания в мире, который воспринимается как враждебный, но еще и выработать определенную форму сознания. Причем под сознанием я имею в виду даже не ту самую чистую или нечистую совесть, которой наделен каждый медлитель, и не вопрос, как можно оставаться самим собой и одновременно, повременив, переходить, как оно говорится, в некое «межеумное» состояние. Я бы хотел задаться другим вопросом — и здесь давайте поговорим про третий «способ», о котором я уже выше упоминал: совершаем ли мы, повременив, эстетическое действие? Можно ли говорить об эстетике этого понятия? Медлитель запросто может оказаться лицемером с чистой совестью или искренним человеком с нечистой; его лицо и надетая маска не одно и то же, или лицо его может запросто оказаться единственной маской, которую увидит и он сам, и другие. В любом случае медлитель осознает себя другим, он рассинхронизирован с тем, кем является, и с тем, кем его считают прочие. Он не тот, кто есть, потому что его «счет времени» не совпадает со всеобщим.
Все в нем зыбко. Место, которое он называет домом, запросто может перестать быть таковым, имущество его запросто могут отобрать. Люди, которых он любит, совсем не те, за кого он их принимает, клятвы их редко выдерживают испытание временем. Описание это можно продолжить: даже с теми, кто ему ближе всех, медлитель обращается как с людьми, которых обречен утратить. Чтобы смягчить удар — а он неотвратим, — медлитель репетирует утрату, ожесточается, хотя люди эти все еще безусловная часть его жизни. Он смотрит на бабушку и видит покойницу, в которую она вскоре неизбежно превратится; смотрит на любовницу и видит прустовскую «беглянку». Он держит всех на расстоянии, жизненными обстоятельствами никак не обусловленном. Он носит траур по тем, кто еще жив, а потом найдет причины завидовать тем, кто уже умер. Он сожалеет о том, чего не утратил, да и о том, чем вовсе не обладал, а потому утратить не может по определению.
Я, понятное дело, говорю о Прусте. Но в случае с Прустом нужно учитывать одну занятную вещь. Марсель постоянно твердит: вот бы заранее знать, что кого-то утратишь, ибо тогда — так ему представляется — он бы меньше страдал. Еще он постоянно мечтает о том, чтобы разум его научился настигать мечту в самый миг ее осуществления, потому что тогда — так ему представляется — удовольствие достигло бы апогея. Но это, надо сказать, всего лишь стратегии усмирения неусмиримой насыщенности настоящего момента, стратегии репетиции, «прописывания сценария» настоящего. Герой Пруста, когда его застают врасплох, оказывается полностью обездвиженным или полностью опустошенным. Когда Альбертина наконец-то изъявляет готовность отдаться Марселю, Марсель начинает тянуть резину. Избыв наконец не слишком, надо сказать, сильную печаль, вызванную смертью бабушки, он внезапно, нагнувшись завязать шнурки, ощущает, как его душит горе, и разражается слезами.
Все во вселенной Пруста нацелено на то, чтобы предотвратить подобные всплески. Попытки повременить нацелены на то, чтобы распылить опыт, увести его за грань, не дать опыту осуществиться в реальности, пока он не пройдет сквозь то, что можно назвать литературным временны́м фильтром. Всю свою жизнь Пруст тратит на то, что ловко мастерит этот фильтр. Это видно даже по его фразам: они с прототипической ловкостью выстроены так, чтобы безупречно исполнять одно действие: повременить. Они все шире раскидывают сети, выжидают, никуда не торопятся, дразнят, подначивают, завлекают, заманивают, подсекают, как будто нечто куда более значительное — вот только и профиль, и характер этого нечто пока автору неведомы, и автор уж всяко не станет тянуть его на поверхность раньше времени, рискуя раззадорить и упустить, — ждет его на конце лески, в некоей ныне неведомой точке будущего, которая, когда мы в нее попадем, — и это совершенно типичный разбег любой прустовской фразы — «высветит задним числом» все темнóты его произведения.
Но хотя Пруст прозорливо и брюзгливо прогуливается из пространства одного времени в другое, Марсель, его персонаж, ни к чему не бывает готов вовремя. Его постоянно изумляет непредвиденное — Пруст будто бы постоянно напоминает самому себе о том, что, как бы старательно Марсель ни отгораживался от жестокого мира, как бы ни избегал с ним контактов — так вот Эдип пытался уклониться от собственной судьбы, — этот самый мир коварно пролезает обратно. Моменты неловкости, когда тебя застают врасплох — назовем это прустовскими несуразностями, — Пруст превратил в своего рода вид искусства, моменты привилегии, потому что только благодаря случаю или несуразице Марсель и сталкивается с настоящим и — это ему прекрасно известно — с самой жизнью с ее удовольствиями, опасностями и печалями. И все же у Марселя есть одна недостижимая мечта: научиться отфильтровывать удовольствие от сопряженных с ним опасностей и печалей. Ему бы научиться не доверять, дистанцироваться, не проявлять такой пылкости и поспешности в желании что-то заполучить сейчас и только сейчас. Урок, который ему необходимо усвоить, достаточно прост — причем и его он облекает в художественную форму: «существующее» нужно раз за разом превращать в «кажущееся»; «кажущееся» — в «не существующее», а «не существующее» — в «бывшее». Только тогда все обретает подлинный смысл — не перед лицом подлинного настоящего, а на некоем высшем суде, который вершит то, что я бы назвал несовершенно-условным-предпрошедшим: «возможно существовавшее и не свершившееся» осмысленнее, чем «просто существующее». Именно в этот слой Пруст и стремится поместить любой опыт, именно в нем и протекает la vrai vie[6]. Память и вымысел — фильтры, через которые он воспринимает, осмысляет и понимает текущий опыт. Для медлителей опыт лишен смысла — он вообще не опыт, — если только он не облечен в форму памяти об опыте или, что почти то же самое, в память о несостоявшемся опыте. Пруст лишь ретроспективно, когда настоящее уже давным-давно кануло, способен наконец увидеть общую картину. Понимание, сколь близко было блаженство… или сколь бессмысленны были печали, доводившие нас до исступления, приходит слишком поздно. Вот стихи Эмили Дикинсон:
Когда спустились Небеса
Почти на мой Порог —
Тогда лишь я и поняла,
Как путь до Них далек.
А отлетела Благодать —
Скорблю о Ней вдвойне:
Что Мир утратил до меня —
То не дано и мне[7].
Задача Пруста — отбросить опыт обратно в прошлое и оттуда — вернусь к глаголу, который уже употребил, — дернуть его назад из будущего, ретро-перспективно. Именно из этого и рождается неповторимый разбег, размах его фразы. В этом размахе прошлое и будущее, а косвенным образом и настоящее существуют в одном едином времени.
К настоящему времени «повременить» подходит долгим окольным путем — таким путем людям случается, вопреки здравому смыслу, прийти к любви. Некоторые воспринимают «сегодня» лишь через призму того, что обязательно вернутся к нему завтра. Некоторые готовы потянуться к тому, что жизнь швыряет им под ноги, только при условии, что приближение обернется для них почти мгновенной утратой. А некоторые воспевают прошлое, сознавая, что на самом деле они любят искренней любовью не то прошлое, которое утратили, не те вещи, которые воспевают и (так они приучили себя думать) любят, а свою способность облечь в слова собственную любовь — любовь, которой, возможно, никогда не существовало вовсе, но она тем не менее остается порождением их способности словчить и проникнуть в некое неопределенно-условное-пред-прошедшее. Они будто бы говорят: процесс письма — штука действенная. Процесс письма доведет вас в нужную точку. Укрыться в комнате, обшитой пробкой, и заново придумать там свою жизнь и есть жизнь, есть настоящее.
А когда у вас возникают сомнения, покой приносит уже сама способность сказать, сколь непрочна ваша связь с настоящим. В этом и заключена подлинная эстетика способности повременить: признавая и демонстрируя, что мы не знаем, как жить в настоящем, и, скорее всего, никогда этому не научимся, что мы совершенно не готовы и не приспособлены к тому, чтобы жить своей жизнью, мы совершенно не обязательно компенсируем эту неспособность. Зато нам открывается доселе неведомое суррогатное удовольствие: само осознание нашей неприспособленности становится оправданием. Играть с разрывом связей между всеми возможностями, заложенными в неопределенно-условное-пред-прошедшее время, затея, может, и дурацкая, каждый раз тебе же от нее и прилетает, зато в результате жизнь твоя возвращается к тебе в форме… вымысла.
И действительно, разрыв, зияние, крошечная пауза — можно еще раз назвать это разбегом между нами и временем, между нами, какие мы есть и какими мечтаем стать, — это все, что нам дано ради осмысления нашего места в жизни. Время измеряется не единицами опыта, а квантами надежды и предвкушаемых сожалений.
Как мне кажется, одна из причин, почему из меня вышел такой непутевый автор путевых очерков, состоит в следующем: попав в то или иное место, я мгновенно теряю способность о нем писать. И дело не в том, что мне нужно, чтобы (как оно говорится) впечатления «улеглись», а в том, что мне нужно почувствовать, что такое-то место утратило свое присутствие, сделалось недоступным, что я, возможно, никогда больше его не увижу. Я хожу по улицам, однако, чтобы написать статью, ради которой меня сюда послали, — я должен отправить ее заказчику сразу же по возвращении в США, — мне нужно представить себе, что я больше не хожу по этим самым улицам. Чтобы написать, я должен притвориться, что вспоминаю. Навык письма вне пространства утраты у меня утрачен…
В одном абзаце книги «Из Египта» я описываю крик моей глухой матери и говорю, что он напоминает мне скрип шин при резком торможении. Больших шин. Автобусных.
Такие вопли — об этом он [мой отец] узнал однажды — издают глухие, если глухому человеку больно, если глухой человек с кем-то повздорил, зашелся в крике, потому что слов не подобрать, изо рта рвется лишь прерывистый визг, больше похожий на скрип шин, с которым целая колонна автобусов разом тормозит в тихое пляжное воскресенье, чем на голос женщины, на которой он женился.
Я бы хотел ненадолго остановиться не на самом крике, а на «тихом пляжном воскресенье», которому крик противопоставлен. Переводчики никогда с этим не справятся, это непереводимо, потому что такого вообще-то не существует, оно лишено смысла: что такое «тихое пляжное воскресенье»?
Тем не менее если эти тихие пляжные воскресенья что-то для меня означают и если — о чем писали мне многие александрийцы, прочитав «Из Египта», — тихая воскресная пауза, как раз перед тем, когда толпы устремятся на пляжи, вбирает в себя самую суть александрийской жизни в конце весны или начале лета, когда летние пляжи еще не до конца превратились в переполненный бедлам (во что они неизменно превращаются в июле), когда они все еще не нарушили обещания одарить тебя в ближайшие недели волшебством, — если все это сегодня что-то для меня и означает, то лишь потому, что оно связано не столько с Александрией, сколько с процессом наложения Египта на нынешнюю мою жизнь в Америке. Дело в том, что это ощущение от тихих пляжных воскресений зародилось не в Египте, а в Америке, однажды утром, когда в первый год нашей тамошней жизни я шел с отцом по Риверсайд-драйв и при виде группы юнцов лет двадцати, загоравших на травянистом склоне рядом с Девяносто восьмой улицей, повернулся к нему и сказал:





