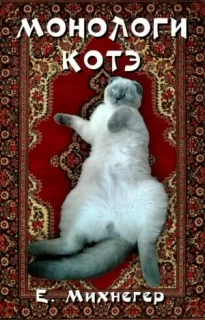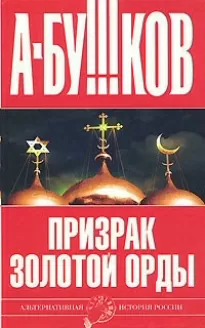Гость Дракулы и другие истории о вампирах
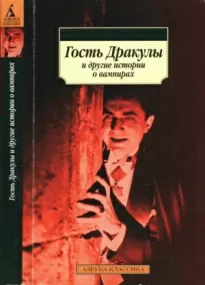
- Автор: Проспер Мериме
- Жанр: Ужасы / Классическая проза
- Дата выхода: 2007
Читать книгу "Гость Дракулы и другие истории о вампирах"
Другие
Недоброй красоты жестокая загадка
На колдовском лице читается у ней,
И в вас ее глаза, что скальпеля острей
И мягче бархата, вонзаются украдкой.
Сокрыто в ней одной все зло миропорядка.
Она вампир, пленять умеющий людей,
А после кровь из них сосущий тем больней,
Что яд он точит с губ, когда целует сладко.
Морис Роллина[68]
Ее стенанья яростны и грубы,
Ее глаза зловещи и унылы,
И страшны угрожающие зубы
На розоватом мраморе могилы.
Николай Гумилев
Ознаменовавший радикальный сдвиг вампирической парадигмы, «Вампир» Байрона/Полидори предопределил широкое распространение этой темы в европейских литературах. Вскоре после публикации рецензии на французский перевод этой повести Шарль Нодье выпустил в свет собственное произведение, в котором присутствуют вампирические мотивы, — прозаическую поэму «Смарра, или Ночные демоны» (1821). Стилизованный под античность и полный аллюзий на греко-римскую классику сюжет осложнен у Нодье реминисценциями южнославянского фольклора и мрачно-гротескными романтическими образами, создающими атмосферу гнетущего, неотступно преследующего человека страшного сна. Среди грезящихся повествователю фантастических чудовищ властвует Смарра — злой дух, демон кошмара. В описании Полемона, одного из героев поэмы, это существо подчеркнуто нечеловеческой, инфернально-хтонической природы, напоминающее инкуба средневековой демонологии, в котором вместе с тем различимы черты и повадки вампира: «…он… раскрывает диковинно изрезанные крылья, взмывает вверх, падает вниз, раздувается, съеживается и, вновь сделавшись мерзким карликом, сияющим от радости, вонзает мне в сердце тонкие стальные когти, с коварством пиявки пьет мою кровь, разбухает, поднимает огромную голову и хохочет». В дальнейшем вполне вампирическое действо — также с участием Смарры — засвидетельствовано и самим рассказчиком: «Шрам Полемона сочился кровью, а Мероя, хмелея от наслаждения, вздымала над головами алчущих подруг растерзанное в клочья сердце солдата, только что вырванное из его груди. Она отнимала, отвоевывала это сердце у жадных до крови ларисских дев. Отвратительную добычу царицы ночных ужасов охранял быстрокрылый Смарра, паривший над нею с грозным свистом. Сам он лишь изредка прикасался кончиком своего длинного хоботка, закрученного, как пружина, к кровоточащему сердцу Полемона, дабы хоть на мгновение утолить мучившую его нестерпимую жажду…»[69] Вампиризм наряду с другими «ужасами» предстает в «Смарре» порождением ночных кошмаров, которые носят откровенно литературный, условно-игровой характер: заметим, что в первом издании книга мистификаторски представлялась читателю как «романтические сновидения, переведенные со словенского графом Максимом Оденом» (очевидная анаграмма фамилии Нодье), а в предисловии к изданию 1832 года писатель, раскрыв свое авторство, определил «Смарру» как «центон, пастиш классиков», «вымысел Апулея, украшенный… розами Анакреона»[70].
В подобном «сновидческо-литературном» ключе тема вампиризма решена и у другого французского романтика и родоначальника декаданса — Теофиля Готье, перу которого принадлежит новелла «Любовь мертвой красавицы» (1836), включенная в настоящую антологию. История священника Ромуальда, влюбившегося в куртизанку-вампиршу, охватывает трехлетний период, в продолжение которого герой новеллы ведет двойную, «сомнамбулическую» жизнь: днем он скромный и набожный кюре, проводящий время в покаянных молитвах и умерщвлении плоти во французской глуши, ночью же — светский щеголь, богатый и знатный любовник обольстительной Кларимонды, живущий в ее огромном дворце в Венеции и, сам того не подозревая, жертвующий ей свою кровь, которая продлевает ее посмертное существование. «То я казался себе священником, которому каждую ночь снится, что он благородный господин, то благородным господином, который видит себя во сне священником. Я уже не мог различить сон и явь, я не понимал, где кончается иллюзия и начинается реальность. Молодой господин, щеголь и распутник, насмехался над священником; священнику были отвратительны выходки молодого распутника. Две спирали, переплетаясь друг с другом, запутывались и никогда не соприкасались, — так можно изобразить эту двойную жизнь, которой я жил». В этой части новеллы налицо повествовательная неопределенность, которая, как уже говорилось ранее, характерна скорее для рассказов о привидениях, но на которой, однако, нередко играют и авторы историй о вампирах, создавая в тексте пресловутый «эффект фантастического»: читатель (вслед за рассказчиком, чьей точке зрения он вынужден доверяться) колеблется в выборе одной из возможных версий происходящего. Финал повествования, впрочем, кладет конец всем колебаниям: аббат Серапион, покровитель и духовный наставник Ромуальда, приводит героя на кладбище, вскрывает могилу, в которой похоронена Кларимонда, и окропляет гроб и тело вампирши святой водой; труп рассыпается в прах, а герой избавляется от мучительно-сладкого наваждения, которому долгое время была подчинена его жизнь.
«Любовь мертвой красавицы», несомненно, многим обязана предшествующей «готической» литературе — в частности произведениям Жака Казота («Влюбленный дьявол», 1772), Гофмана («Эликсиры сатаны», 1815–1816, «<Вампиризм>», 1821), Полидори («Вампир») и, конечно, рассказам и повестям соотечественников и современников Готье, так или иначе касавшимся темы вампиров («Обаяние» (1831) Самюэля-Анри Берту, «Паола» (1832) Жака Буше де Перта и др.). Как и в повести Полидори, вампирическое представлено в новелле Готье в аристократическом облачении и напрямую соотнесено с эротическим началом; оно выступает источником и одновременно объектом опасной, губительной, но неодолимой страсти, при которой «между вампиром и его жертвой возникает связь садомазохистского характера»[71] (Ромуальд, даже узнав тайну Кларимонды, не в силах заставить себя разлюбить ее и готов «по доброй воле отдать ей всю кровь, которая… нужна, чтобы поддержать ее призрачное существование»). Наследуя «Влюбленному дьяволу» (любовно-авантюрный сюжет которого вращается вокруг таинственной героини явно инфернального происхождения), Готье одним из первых в европейской литературе изображает вампира-обольстителя в женском обличье[72] — и тем самым открывает путь устойчивому культурному образу и речевому клише «женщина-вамп». Кларимонда в описании Ромуальда предстает воплощением опасной хтонической женской природы (ср. финальное предостережение героя: «Никогда не подымайте глаз на женщину… ибо, как бы ни были вы целомудренны и спокойны, достаточно бывает одной минуты, чтобы потерять вечность»), а связь с нею воспроизводит архетипический сюжет о потустороннем браке, широко распространенный в жанре баллады и в «готической» прозе[73], где он неизменно сопровождается амбивалентным психологическим комплексом ужаса/наслаждения.
Почти одновременно с Готье тему мертвой возлюбленной, с угадываемыми за ней вампирическими смыслами, разрабатывает американский романтик Эдгар Аллан По, публикующий в 1835 году первый вариант новеллы «Береника», которая открывает авторскую серию повествований о возвращающихся к жизни покойницах (за «Береникой» последуют «Морелла» (1835), «Лигейя» (1838), «Элеонора» (1841)). Вампирическое не явлено в новелле открыто: По обходится намеками и полунамеками, вводя тему загадочной «роковой болезни», вследствие которой заглавная героиня до неузнаваемости переменилась, причем Эгея (рассказчика истории, кузена и жениха Береники) более всего ужасает подмена самой сущности его некогда «стремительной, прелестной», «беззаботно порхавшей по жизни» невесты. Портрет угасающей жертвы этой подмены разительно напоминает описания призраков и выходцев с того света в «готических» романах: «Была ли причиной тому только лихорадочность моего воображения или стелющийся туман так давал себя знать, неверный ли то сумрак библиотеки или серая ткань ее платья спадала складками, так облекая ее фигуру, что самые ее очертания представлялись неуловимыми, колышащимися? Я не мог решить. <…> Вся она была чрезвычайно истощена, и ни одна линия ее фигуры… не выдавала прежней Береники. <…> Лоб ее был высок, мертвенно бледен… Глаза были неживые, погасшие и, казалось, без зрачков, и, невольно избегая их стеклянного взгляда, я стал рассматривать ее истончившиеся, увядшие губы». «Я теперь и не знал, кто это… Во всяком случае, то была уже не Береника!» — признается рассказчик. Автор никак не объясняет суть произошедшей подмены, но одна чрезвычайно выразительная деталь позволяет интерпретировать недуг героини как превращение в вампиршу в результате вампирского укуса: эта деталь — «зубы преображенной Береники», «длинные, узкие, ослепительно белые, в обрамлении бескровных, искривленных мукой губ», характерные вампирические зубы, в которых герой-рассказчик видит потенциальную угрозу для себя и которые становятся объектом его болезненной мании. Эгей страстно мечтает заполучить эти зубы, возымевшие над ним «страшную власть», ибо убежден, что только это может «восстановить мир» в его расстроенной душе. Когда Береника после очередного странного припадка впадает в «транс, почти неотличимый от смерти», и признается окружающими умершей, герой тайком пробирается к ее могиле и вырывает из ее рта «тридцать две маленькие, словно выточенные из слонового бивня костяшки». Эгей «присваивает кошмарный фетиш»[74], сам пребывая в состоянии транса: «он пассивно подчиняется собственным экстремальным эмоциям и позднее отстраняется от них провалом в памяти»[75].
Экстравагантная фобия героя-рассказчика «Береники», подсказанная печатными источниками[76] и приоткрывающая «вампирический» подтекст новеллы, в XX веке стала благодатным материалом для психоаналитических интеллектуальных построений. Его фиксация на зубах прочно увязывается интерпретаторами с мужским страхом перед женской сексуальностью, в частности, с описанным Фрейдом инфантильным комплексом кастрации, воплощаемым в известном мифологическом мотиве vagina dentata, или зубастой вагины[77]. С другой стороны, преображение облика Береники, открывающее за ее «загадочной улыбкой» «жуткое белое сияние ее зубов», иллюстрирует визуальную и гендерную двусмысленность вампирского рта, который, «поначалу соблазняя своей манящей приоткрытостью, обещанием розовой мягкой плоти, но вместо этого обнажая острые клыки, приводит в оторопь, смешивая гендерно определенные категории пенетрации и ее принятия» и тем самым «проблематизируя различие мужского и женского»[78]. В таком прочтении «стоматологическое» варварство героя новеллы может быть понято как подсознательное стремление избежать «распятия на фаллических зубах»[79] вампира — зубах, по словам самого Эгея, «исполненных смысла» (традиционно отождествляемого в западной культуре с мужским началом) и жажды власти, — и вновь обрести свою пошатнувшуюся гендерную идентичность.
Еще более подходящий материал для подобных построений — повесть «Кармилла» (1871–1872) Джозефа Шеридана Ле Фаню, автора многочисленных «готических» рассказов и романов, которого современники называли «ирландским Эдгаром По». В «Кармилле», в отличие от «Береники», вампирическое и эротическое начала открыто явлены в тексте и представлены в очевидной взаимосвязи. За четверть века до выхода в свет первых психоаналитических работ и возникновения самого термина «психоанализ» Ле Фаню устами рассказчицы истории — юной невинной Лоры — фиксирует наличие в человеческой натуре «подавленных инстинктов и эмоций» и изображает их «внезапные проявления» в облике и поведении загадочной Кармиллы. Типовая, восходящая еще к Полидори сюжетная схема (серия реинкарнаций неупокоенного вампира, появляющегося в разных местах и временах под разными именами и осуществляющего совращение все новых неопытных душ) осложняется здесь тем, что и вампир, и жертвы вампира — женского пола: развивая эротические коннотации темы вампиризма, автор «Кармиллы» привносит в нее отчетливо различимый в повествовании мотив лесбийского сексуального влечения. Рассказчица периодически становится объектом странного «томного обожания», «загадочного возбуждения» и «страстных заверений в любви» со стороны своей новой подруги. «Иногда… моя странная и красивая приятельница брала мою руку и снова и снова нежно пожимала ее, слегка зардевшись, устремляла на меня томный и горящий взгляд и дышала так часто, что ее платье вздымалось и опадало в такт бурному дыханию, — рассказывает Лора. — Это походило на пыл влюбленного; это приводило меня в смущение; это было отвратительно, и все же этому невозможно было противиться. Пожирая меня глазами, она привлекала меня к себе, и ее жаркие губы блуждали по моей щеке. Она шептала, почти рыдая: „Ты моя, ты должна быть моей, мы слились навеки“». Выказывая чувства, напоминающие «пыл влюбленного», Кармилла демонстрирует характерное для лесбийской сексуальности смещение гендерной роли, которое провоцирует рассказчицу на противоречивые, пугающие ее саму размышления о непонятной «мужественности» ее подруги. Повесть Ле Фаню, как неоднократно отмечалось в литературоведении, имеет своими несомненными источниками «Кристабель» Кольриджа[80], развивающую сходный мотивно-тематический комплекс[81], а также реальную историю венгерской графини Батори, в начале XVII века предавшей мученической смерти в своем замке Сейте сотни юных девушек, кровью которых она надеялась омолодить собственное стареющее тело[82]. Вместе с тем очевидно, что провокационный и девиантный эротизм «Кармиллы» обращен к современной автору Викторианской эпохе — это открытый вызов ее пуританским условностям, ее жесткому, обезличивающему, подавляющему человеческую сексуальность (в особенности женскую) морально-поведенческому кодексу. Вампир у Ле Фаню (и, немного позднее, у Стокера, чей роман содержит ряд очевидных параллелей «Кармилле») выступает, таким образом, нарушителем сложившегося социального порядка, вскрывающим конвенциональность, относительность, мнимую естественность последнего. Соответственно, против него ополчаются представители властных и общественных институтов, рассматривающие его не только как «нечисть», создание, противное Богу и людям, но и как преступный элемент, подлежащий искоренению[83]. Тем самым вампир оказывается включен в систему уголовного судопроизводства[84] — то есть вписан в те социальные структуры, подрывом которых грозило его явление в цивилизованный мир. Эта принудительная социализация (пусть и негативная) — едва ли не более красноречивое свидетельство его поражения, чем вбитый в грудь кол или сожженный труп.