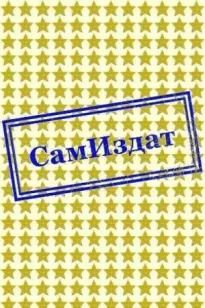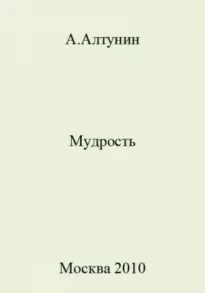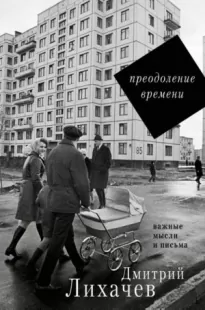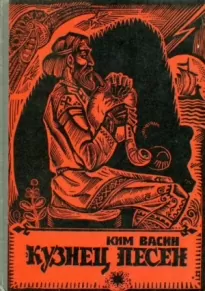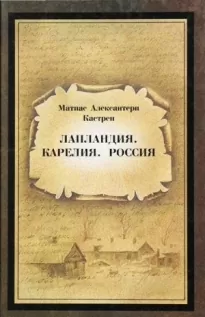Путешествия Элиаса Лённрота. Путевые заметки, дневники, письма 1828-1842 гг.
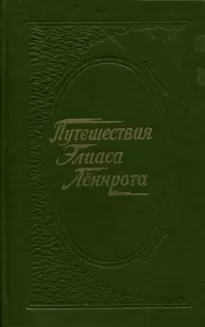
- Автор: Элиас Лённрот
- Жанр: Языкознание
- Дата выхода: 1985
Читать книгу "Путешествия Элиаса Лённрота. Путевые заметки, дневники, письма 1828-1842 гг."
В Зашейке мы рассчитывали немного поспать, но нам это не удалось, и мы отправились в последний перегон, оставшийся до Кандалакши, длиной в тридцать верст. И здесь нам достались далеко не завидные олени, но все же они были намного лучше первых. Некий Пахков, проживающий в Кандалакше, хозяин всех постоялых дворов до Разнаволока на случай, если олени устанут, отправил нам навстречу лошадь. Он заранее получил известие о нашем прибытии от человека, который привез почту из Колы и выехал из Зашейка раньше нас. Мы встретили лошадь за три версты от Кандалакши и могли распроститься с оленями, бог знает на какое время — на год, на два, на пять лет, а может, и навсегда. [...]
Дорога от Колы до Кандалакши ровная, без гор, если не считать довольно пологого откоса, по которому со стороны Мааселькя спускаются на озеро Имандра, а также последний перегон у Кандалакши. Пять лет назад по этой дороге я впервые ехал на оленьей упряжке и теперь, проезжая по одной из сопок, узнал даже сосну, к которой протащил меня олень, когда я свалился с кережки. Meminisse juvat[170]. Полпути от Колы проезжают сушей и небольшими озерами, затем до самого последнего перегона простирается озеро Имандра длиной в девяноста верст; все же ехать приходится не только по льду, так как на пути попадается множество мысов разной ширины. На виденных мною картах это озеро изображено шире, чем оно есть на самом деле, вообще-то оно не очень широкое. По-лопарски оно называется Aävver jävr, т. е. по-фински Avarajärvi[171], Многие карелы называют это озеро Инари, так же как в Финляндии озеро Инари. [... ]
Мы ехали по озеру Имандра сорок верст, и все это время сбоку от нас виднелись подоблачные хребты Умбтег, они показались задолго до того, как мы вступили на лед Имандры. Кому не приводилось ранее видеть эти горы, тот не смог бы сразу отгадать, то ли это белые облака на горизонте, то ли вздымающиеся до облаков горные хребты. Проезжая здесь в прошлый раз, я даже с близкого расстояния не мог определить, что передо мной — вершины гор или облака. Они находятся на восточном берегу Имандры, примерно в десяти верстах к югу от Риккатайвал, хотя кажется, что они совсем близко от Риккатайвал, на противоположном берегу озера. Русские называют их Гибин, карелы — Хийпиня, лопари — Умбтег. Как далеко они были видны потом, когда мы их миновали, трудно сказать, поскольку по выезде из Йокострова нас застала ночь, а кроме того, из кережки даже днем невозможно разглядеть предметы, остающиеся позади. В иные дни, когда светило солнце, даже перед кережкой было трудно что-либо разглядеть, потому что лучи солнца, отражавшиеся от огромных снежных просторов, слепили глаза. Мы вынуждены были прикрывать глаза и смотреть лишь на оленя и передок кережки. Когда же на нашем пути оказывался какой-нибудь мыс, где зеленел лес, для глаз наступал отрадный отдых.
Вдоль всего пути был довольно густой лес из сосен, елей и берез. Даже севернее Колы эти деревья вырастают довольно большими и высокими. На две мили севернее, в Кильдине, недалеко от погоста я увидел целую рощу высоких прямоствольных берез, стволы большинства из них были диаметром в четыре-пять дюймов, а некоторые даже с пол-локтя. А на последнем перегоне у Кандалакши во многих местах рос отменный строевой лес. На коре многих деревьев были вырезаны фигурки людей головой вниз, но сколько бы я ни расспрашивал об их значении, так и не получил объяснения этому. [...]
Прежде чем перейти к описанию жизни другого края, а именно — русского, позвольте мне, прощаясь с краем лопарей, еще вернуться к их языку и говорам. Не принимая в счет лопарей тундры, об остальных можно сказать, что они владеют двумя языками: своим родным и государственным языком страны. Ранее уже говорилось о финском языке финляндских лопарей, лопари Норвегии и Швеции, наверное, в такой же степени владеют шведским и норвежским. Но о лопарях России, особенно проживающих в окрестностях Колы и вдоль тракта, ведущего в Кандалакшу, говорят, что они разговаривают в основном по-русски, так что их невозможно отличить от урожденных русских. По тем сведениям, которые нам удалось получить, родной язык российских лопарей делится на три основных говора. Первый из них является общим для лопарей, живущих возле Колы и озера Имандра, кроме деревни Мааселькя, расположенной севернее. На втором говорят лопари Мааселькя и лопари деревень к востоку и северо-востоку от Колы. На третьем говорят самые отдаленные от Колы лопари Турьи, живущие в восточной и юго-восточной части упомянутого [Кольского] полуострова. [...]
«Во всех отношениях остается только сожалеть, что русские сделали так мало для развития языка (русских лопарей)», — говорит Раск в упомянутой работе (часть II, с. 340). Мы полностью присоединяемся к его высказыванию, добавив лишь, что точно так же мы можем сетовать и на финнов, не занимающихся изучением говоров финляндской Лапландии, и даже с еще большим основанием, так как именно финны, ввиду родственности финского и лопарского языков, могли бы лучше других изучить лопарский язык и способствовать его развитию. Но таков у нас обычай — заниматься всяческими делами, чуждыми нам, и предоставлять немцам и прочим возможность изучать то, что ближе нам самим, как, например, лопарский и даже финский языки. Лишь в Норвегии и Швеции лопарский язык неплохо изучен, но тоже не настолько, чтобы филологам в этой области нечего было делать. [...]
Пока дороги более или менее хорошие, ехать предстоит всего триста верст, и я надеюсь, что путь займет не слишком много времени, если даже иногда и придется делать остановки на несколько часов. Прежде всего надо побыть в Кандалакше — неказистом волостном городке в сорок домов, расположенном на правом берегу реки Нива, неподалеку от довольно больших сопок, названия которых нам подсказал один карел; это Ристиваара, Раутаваара, Волоснаваара, Селеднаваара. В этих краях был даже свой чиновник — становой, об обязанностях которого мне почти ничего неизвестно, возможно, что он только занимает место и принимает путешественников. [...] Кроме станового, показавшегося нам весьма порядочным и доброжелательным человеком, здесь был еще почтовый смотритель, а также поп, но нам не довелось с ними встретиться.
Видимо, когда-то Кандалакша была значительным местом; прямо напротив нее, на мысу, расположенном на противоположном берегу протока, как рассказывают, был монастырь с тремя церквами. «Немцы» (карелы или норвежцы?) во время войны разрушили его, и ныне там стояли лишь одна церковь и несколько плохоньких домишек. В одной старинной руне[172] говорится о девушках из Кандалакши (Каннанлахти по-карельски), которых молодые мужчины хотели было украсть и продать в Виена (Архангельск), судя по этому, можно полагать, что когда-то давно в этих краях жили лучше, потому что за теперешних Кандалакшских девушек, продавай их в Виена или куда угодно, думаю, много не выручишь. [...]
Из Кандалакши мы проехали тридцать верст в Княжую Губу, оттуда еще тридцать — в Ковду. Княжая Губа — бедная деревушка, в ней всего домов двадцать пять. Возможно, что ее прежнее наименование Рухтинан лахти, а теперешнее — перевод на русский, жители деревни тоже были русскими, вернее смесью русских и карел. По-видимому, так же обстоит дело и с жителями других русских деревень, расположенных на берегу моря, и у них теперь господствует русский язык. Те многочисленные карельские названия, распространенные здесь и в других местах русской Лапландии, как, например, Мааселькя, Риккатайвал, Нивайоки, Кандалакша, а также явные искажения или переводы на русский обычных для Карелии названий, как Пинозеро (Пиениярви), расположенное к северу от Кандалакши; Верхозеро (Коркиалампи) — между Кандалакшей и Княжей Губой, Белозеро (Валкиаярви), Старцевозеро (Уконъярви), Старцева Губа (Уконлахти) — между Княжей Губой и Ковдой; Паяканта Губа (Паюканта), Глубокозеро (Сювялампи) и прочие, дают основания полагать, что и Княжая Губа является переводом от Рухтинан лахти. Подобное же название и сходные с ним встречаются в Финляндии, как например: Рухтинан салми, Рухтинан сало, Рухтинан киви[173] и т. д. Несомненно, и названия Черная Река, Летняя Река и прочие являются переводами от распространенных в Карелии названий Мустайоки, Кесяйоки. Русские относятся к названиям мест как к эпитетам — как только узнают их значение, так сразу же переводят их на свой язык. Отсюда возникает значительная путаница в географическом отношении, но, с другой стороны, их язык от этого становится только многозвучней, потому как чужие по происхождению названия мест звучат как иноязычные.
Глубокой ночью мы прибыли в Ковду. Пришлось какое-то время стучаться, пока нас не впустили на станцию, или постоялый двор. Хотя в той комнате, куда нас поселили, жили две-три пожилые женщины, которые уже спали, нечего было и думать, что и нам постелют, поэтому мы улеглись спать прямо на полу среди своих дорожных сумок, рюкзаков и одежды и неплохо выспались. Вообще-то последний раз мы спали в приличной постели в гостях у пастора Дурхмана в Инари. Лопари предоставляют приезжему самому выбирать место для сна и делать себе постель, хорошо еще, если принесут оленью шкуру для подстилки. Правда, в Коле у нас была кровать, но далеко не идеальная постель. В Кандалакше мы две ночи спали на полу и также на всех остановках до Кеми, ни на одном из постоялых дворов не было и признаков кровати, не говоря уже об отдельной комнате для гостей. [...]
Вообще-то Ковда — маленькое село, состоящее приблизительно из пятидесяти домов, многие из которых — двухэтажные и отстроены в целом лучше, чем дома в Кандалакше. Летом здесь должно быть очень красиво: река Ковда, огибающая почти все село и текущая с юга на север, словно в поисках русла, сворачивает на восток и юго-восток, чтобы впасть в близлежащее море. Таким образом, Ковда остается на мысу, на южном берегу этой бурлящей небольшими порогами реки. Похоже, что здесь хорошие уловы, потому что даже в это время года продавался свежий лосось. Мы купили одного лосося весом в двадцать три фунта, из которого несколько дней готовили пищу, но так до Кеми и не успели всего съесть. Мы заплатили за него по двадцать копеек за фунт. Здесь, в окрестностях Ковды и соседней Черной Реки, как сказывали, были хорошие обширные покосы, а возле других деревень и городов покосы были скудными, и поэтому им весной приходилось докупать сено для скота. А стоимость его в этом году была двадцать-тридцать копеек за пуд. [...]
Из Ковды, проехав двадцать две версты, мы прибыли в Черную Реку, или Мустайоки, — деревню, состоящую примерно из тридцати домов. Поехать дальше нам уже не удалось, поэтому заночевали здесь, а на следующий день проделали путь в сорок верст до села Кереть. В этих краях нередко можно встретить людей, переселившихся сюда из приграничных волостей Финляндии и принявших православную веру. [...]
Кереть, куда мы прибыли, была гораздо лучше Ковды и Кандалакши. Она расположена на северном берегу одноименной реки, имеет свою церковь и священника, чего в других местах, начиная от Кандалакши, не было. Почти сразу же по приезде нас пригласили на чай к торговцу Савину — самому богатому человеку этих мест. Его дочь вышла замуж в Колу, но там она сразу же стала страдать от сильной подагры. Помимо богородицы (девы Марии), попов Колы и лопарей Кильдина, меня тоже приглашали помочь страдалице. Наконец она все же поправилась, и все, должно быть, решили, что мои лекарства ускорили ее выздоровление, и вот теперь ее родители, живущие в Керети, узнав обо всем из письма и желая выразить свою благодарность, пригласили нас на чаепитие, а вечером на ужин и еще на чай утром следующего дня. У самой девушки было своеобразное представление о болезни. В Керети к ней многие сватались, но все получили отказ, поэтому, когда она вышла замуж за теперешнего своего мужа в Колу, то и она сама и все домашние были твердо убеждены, что кто-то из прежних женихов, а может быть и все вместе наслали ей эту болезнь. [...]