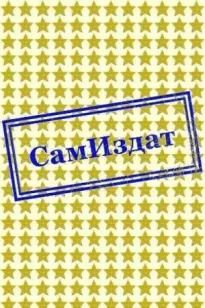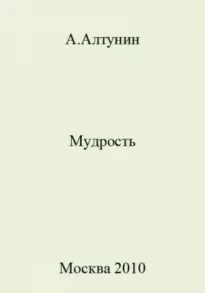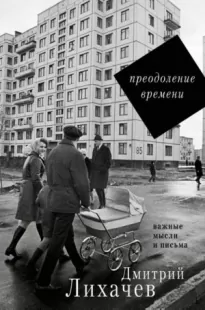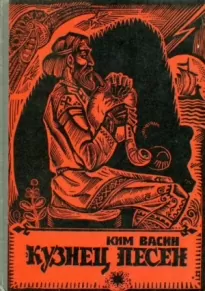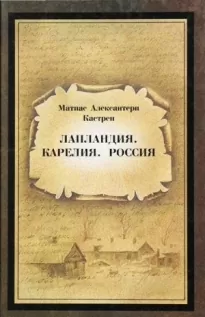Путешествия Элиаса Лённрота. Путевые заметки, дневники, письма 1828-1842 гг.
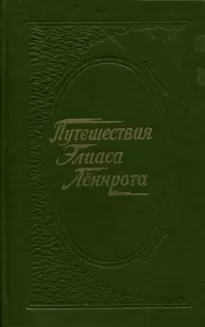
- Автор: Элиас Лённрот
- Жанр: Языкознание
- Дата выхода: 1985
Читать книгу "Путешествия Элиаса Лённрота. Путевые заметки, дневники, письма 1828-1842 гг."
ДОКТОРУ РАББЕ
Архангельск, 24 июня 1842 г.
[...] О своей поездке в Кемь я писал уже в прошлом письме, так что добавить к этому нечего. В Кеми мы пережидали распутицу, которая задержала нас там вплоть до 19 мая. Из Кеми в Архангельск вообще нет летних проезжих дорог, поэтому нам пришлось ждать, чтобы при первой же возможности поехать по морскому пути. Нам нужно было попасть к архимандриту Вениамину для изучения языка самоедов. Итак, мы сели в первую лодку, отплывавшую из Кеми в знаменитый Соловецкий монастырь, расположенный на большом острове, в шестидесяти верстах пути. Кемь, которую я покидаю, — это молодой город, однако создающий впечатление старого и обветшалого. Ему теперь семьдесят лет, а подобный возраст для города не соответствует даже семидесяти дням человеческой жизни. Город выстроился возле небольшой бухты, полукругом в форме лошадиной подковы, чуть севернее реки Кемь, малая ветвь которой и еще какая-то речка протекают через городок. В месяцеслове (календаре) 1841 года названы число домов — 316 и численность населения — 1726, но, по мнению многих жителей Кеми, обе эти цифры весьма приблизительные. Летом по улицам, говорят, невозможно ездить, поэтому во всем городе нет ни дрожек, ни карет. Не знаю, можно ли по ним проехать на телеге, но полагаю, что при большой необходимости это возможно. Для пешеходов проложены довольно хорошие, широкие деревянные тротуары — такие же, как и здесь, в Архангельске; различаются они лишь тем, что здесь тротуары, как правило, находятся посередине, а проезжая часть дороги — по обеим сторонам от них. [...]
Кроме нас в лодку сел исправник Кольского уезда, титулярный советник Иван Латышев, с которым мы познакомились уже в Коле и убедились в том, что он порядочный человек. Мне удалось немного подлечить его хронические ревматико-ипохондрические недуги, так что недели через две, вернувшись из Архангельска, он сказал, что избавился от ревматизма и лишь незначительно страдает от ипохондрии. В лодке находилось также несколько богомольцев-паломников и среди них — две женщины родом из Ярославской губернии, если я правильно помню. Они уже зимой прибыли в Кемь, чтобы поехать, по их словам, в широкоизвестный монастырь, дабы постигнуть блаженство для души. Но, похоже, немало таких богомольцев, которые, прикрываясь тем, что они якобы идут в монастырь, бродят по всей стране и кормятся подаяниями. [...]
На протяжении тридцати верст от Кеми повсюду на пути виднелись острова, затем показалось открытое море, по которому мы добрались бы до самого монастыря, если бы море не было затянуто льдом. Поэтому, надо полагать, нам повезло, что мы оказались на твердой земле. Нас высадили на какой-то маленький остров в пятнадцати верстах от монастыря, что сравнительно недалеко от большого монастырского острова. Послали в монастырь за лошадьми и повозками, и после шести часов ожидания они наконец-то показались вдали. В монастыре мы пробыли около недели, нас задержали льды. Когда же море открылось, выехать нам не представлялось никакой возможности, так как со стороны Архангельска не было ни кораблей, ни лодок. Ожидание настолько затянулось, что мы решили нанять лодку с гребцами и добраться до материка на Архангельской стороне, а расстояние до него семь-восемь миль отсюда. Потом, нанимая лодку, мы перебирались из деревни в деревню по морю.
Я оставлю до встречи подробное описание великолепного и богатого монастыря. Кроме основного острова длиной в двадцать пять верст и около десяти верст шириной, называемого Соловецким, монастырю принадлежат два других, расположенных поблизости с довольно большими островами — Анзеро и Муксалма, да еще тридцать маленьких островков, раскинувшихся вдоль побережья. Чтобы скоротать ожидание, в один из дней мы съездили на Анзеро. Нам дали большую коляску, запряженную тремя лошадьми, и мы поехали по довольно сносной проезжей дороге с верстовыми столбами по обочинам, я насчитал их пятнадцать. Вдоль дороги у ламбушек нам встречались избушки, в которых в летнее время живут монастырские рыбаки. Говорят, что ламбушек на трех островах насчитывается сорок четыре. Но, разумеется, более доходной рыбной ловлей занимаются на морском побережье. На берегу, где кончалась дорога, стояла избушка для приезжих, а чуть в стороне — еще несколько изб. Присматривать за этой маленькой деревней было вверено монаху родом из Тверской губернии. Он был из тверских карел, и карельский, на котором он говорил, больше походил на финский, чем тот карельский, на котором говорят в округе Вуоккиниеми и Репола, где он смешался с олонецким говором. Этот мужчина рассказал, о чем я знал уже прежде, что в Тверской губернии много больших карельских деревень. Я поинтересовался их обычаями, которые оказались в основном такими же, как у остальных карел России. Он сообщил также, что у них на игрищах или когда собирается народ поют карельские песни. [...]
В Анзеро, куда мы прибыли, были две монастырские постройки, принадлежащие Соловецкому, но поменьше и, подобно главному монастырю, тоже сделанные из камня. Одна из них, названная так же, как и остров, находилась примерно в версте от берега около маленького внутреннего озера. Когда-то давно оно, по-видимому, называлось по-карельски Ханхиярви[177], позже образовалось Аньозеро, потому что в русском в начале слова нет буквы h, а затем сократилось до теперешнего краткого Анзеро.
В Анзеро мы встретили бывшего царского флигель-адъютанта, находившегося здесь в ссылке. Он был одет по-монашески, отпустил длинную бороду и вел себя настолько смиренно, что не хотел даже садиться в нашем присутствии. А вообще, будучи очень вежливым и учтивым, он сам поставил для нас самовар, руками подбрасывая угли. Он сносно говорил по-немецки и поведал нам, что его сослали в основном из-за того, что однажды ему пришло в голову освистать актера Петербургского дворцового театра. Но более достоверной кажется история, рассказанная другими. Причиной ссылки его было якобы непристойное поведение и беспорядочный образ жизни. Он представился Шумским, но в монастыре его знали по фамилии Аракчеев. Это, по его словам, явилось следствием того, что он был приемным сыном небезызвестного Аракчеева. Пока мы были там, я не слышал, чтобы его кто-либо называл иначе. [...] Кроме предоставленных в пользование комнат и относительной свободы в монастыре ему было выделено по царской милости на личные расходы по сто рублей банковскими ассигнациями в месяц, и он, казалось, был вполне доволен своим положением.
Всего четыре версты от Анзеро до второго монастыря, расположенного на этом же острове. Он стоит на высоком крутом холме, с которого открывается прекраснейший вид на дальние проливы, острова, леса и озера. Мы не слышали, чтобы это место называли иначе как Галгоф, и решили, что название это произошло от шведского словосочетания «галгхоф»[178], тем более, что в летописях монастыря упоминается о том, что в далекие времена шведы посылали сюда вооруженные отряды с целью нападения и грабежа уже тогда богатого монастыря. Но так же, как шведы были обмануты в своих надеждах, так и мы ошиблись в поисках происхождения названия: оказалось, Галгоф — не шведского, не карельского и не русского происхождения, а древнееврейского, и означало оно то же, что у нас Голгофа, хотя его вполне можно толковать как шведское Галгхоф. Здесь на Голгофе мы повстречали другого сосланного, бывшего офицера, во время прохождения службы жившего в Финляндии. Он тоже отрастил бороду и ходил в монастырской одежде, но был человеком веселым и приятным. «Это прекрасно», — часто повторял он, слушая наши ответы на свои вопросы о Финляндии. [...]
И этому бывшему офицеру, как и Шумскому, было дозволено ходить куда угодно, даже за монастырскую стену, тогда как в главном монастырском здании содержались и другие, настоящие узники, у которых не было таких привилегий, они были заперты в кельи и находились под постоянным надзором. Много было и таких, которых родители либо родственники отправили в монастырь на полгода либо на год на перевоспитание, других же мать или отец жертвовали монастырю по обету. Так, извозчик, который возил нас в Анзеро, поведал нам, что мать пожертвовала его монастырю, когда он был еще ребенком. [...]
Путь из монастыря прошел не без осложнений. По морю плавали большие ледяные глыбы, вернее, маленькие ледяные острова, местами их скапливалось столько, что невозможно было протиснуться между ними, и лодку приходилось перетаскивать прямо по льду. Иногда мы видели тюленей, выныривавших из воды, подчас совсем рядом с лодкой, некоторые из гребцов стреляли в них, но не попадали. Осенью, когда устанавливается лед, тюленям приходится туго. Они собираются в большие стада — до тысячи и более голов. На ледяных глыбах самки выкармливают детенышей и опекают их, пока малыши не научатся хорошо плавать. Как только такую глыбу подгонит ветром или течением к берегу, крестьяне с дубинками в руках бросаются на стадо и устраивают настоящую бойню. Самки — прекрасные пловчихи, и они, конечно, пытаются увести своих детенышей от опасности, но бельки, не умеющие плавать или плохо плавающие, оказавшись в воде, цепляются за кромку льда и виснут на ней, и тут удар дубинки настигает их. Но бывает и так, что, увлекшись кровавой сечей, крестьяне не замечают, как ветром или отливом льдину отгонит от берега, и тогда они сами могут погибнуть, потому что не берут с собой лодок, так как к тюленям надо подкрадываться осторожно. Хорошо, если с берега кто-нибудь заметит беду и кинется на выручку или ветер пригонит льдину к другому берегу. [...]
Вечером 29 числа мы прибыли в Архангельск и, следуя совету исправника, остановились в русском трактире, где и живем по сей день. [...]