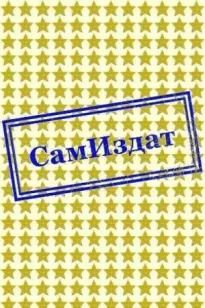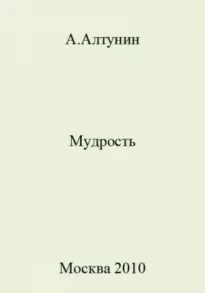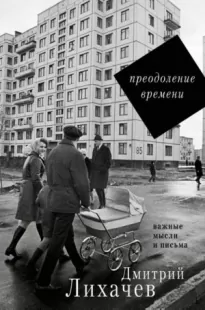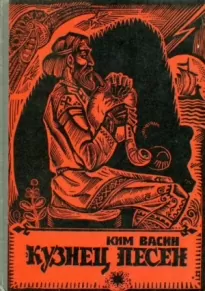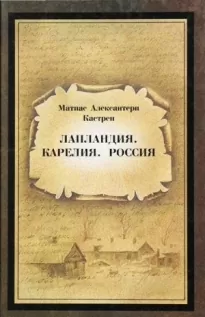Путешествия Элиаса Лённрота. Путевые заметки, дневники, письма 1828-1842 гг.
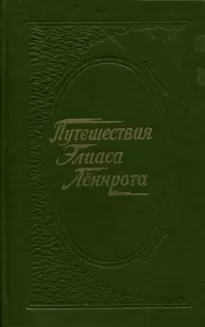
- Автор: Элиас Лённрот
- Жанр: Языкознание
- Дата выхода: 1985
Читать книгу "Путешествия Элиаса Лённрота. Путевые заметки, дневники, письма 1828-1842 гг."
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
[...] Если бы время и обстоятельства позволили мне, я бы совершил путь из прихода Нурмес, что на севере Карелии, в приход Репола Олонецкой губернии и оттуда дальше к северу в Вуоккиниеми и в другие приходы Архангельской губернии. От центра Нурмеса верных шесть миль до деревни Йонкери, расположенной в отдаленном уголке прихода, напротив Репола, граничащей с приходом Кухмо. Еле приметные тропинки бегут то по болотам, то по низким холмам, покрытым величественными и бескрайними нетронутыми лесами. В начале пути еще встречались кое-где одинокие усадьбы, а дальше, кроме единственной захудалой избенки, не было ни одного жилья. [...]
Когда-то, несколько десятков лет тому назад, дети из йонкери сами добирались на лыжах до церкви в Нурмесе, чтобы их окрестили.
Переночевав в одном доме, мы пошли дальше на север в Саунаярви, и там я попрощался со своими попутчиками. За час я добрался до Нискаваара, сначала по воде, затем по суше, и до нитки промок под проливным дождем. Отсюда я должен был идти в Уконваара, до которой, как мне говорили, три версты. Малыш лет пяти-шести — старших никого не было дома — проводил меня немного по тропе и, сказав, что дальше надо сворачивать то налево, то направо, повернул обратно. Я действовал точно по его совету относительно поворотов направо и налево, но не знал, какая из свороток вернее. Наконец я пришел в усадьбу под названием Лосола, или Лосонваара. Отсюда мне предстояло пройти еще две версты до Уконваара и далее шесть верст до Куусиярви, куда я добрался поздно вечером. На следующее утро я отправился дальше, наняв одного мужчину проводить меня до Колвасъярви — первой русской деревни, что в двух с лишним милях отсюда. Мы прошли по сухим грядам, расположенным параллельно и поросшим сосняком, между которыми были болота. Чтобы лучше представить себе эту местность, можно вообразить, что когда-то здесь все было покрыто водой, которая, придя в движение, образовала огромные волны да так потом вдруг и застыла. Гребни волн как бы превратились в гряды, а у их оснований образовались болота. Трудно представить себе, какой же страшной силы была буря, если она смогла поднять такие гигантские волны, по сравнению с которыми все ранее описанные жуткие истории о кораблекрушениях покажутся ничтожно малыми, даже если их разглядывать сквозь лупу самых внушительных размеров. Идти по сухому гребню было легко. Посреди длинных и узких болот кое-где виднелись лесные ламбушки, но даже они не могли придать пейзажу очарования. Если бы нам вздумалось под прямым углом изменить направление своего движения, то нам пришлось бы без конца подниматься на гряды, переходить их, пробираться болотами и т. д.
Пройдя верст тринадцать, мы вышли на берег Осмаярви. Надежды наши отыскать здесь хоть какую-нибудь лодку не сбылись. Пришлось идти четыре версты по правому берегу до пролива, соединяющего озера Осмаярви и Колвасъярви. Мы стали изо всех сил кричать: «Лодку! Лодку!», но так ни до кого и не докричались. Да и навряд ли наши крики могли быть услышаны в деревне Колвасъярви, которая находилась в трех верстах от пролива. Но нам все же надо было как-то переправиться через озеро — слишком большое, чтобы обогнуть его, к тому же в конце пути мы оказались бы у широкого ручья, перейти который было бы ничуть не легче. У нас не оставалось другого выхода, как самим соорудить средство для переправы.
Неподалеку от берега лежали сосны, поваленные друг на друга, с которых прошлым летом жители Колвасъярви сняли заболонь на пироги, как сказал мой провожатый. Православные финны[42] и в праздники, и в будни едят много пирогов, а ныне, при заметной нехватке зерна, сосновая заболонь стала основной примесью в муку. Из этих подсохших за лето сосен мой попутчик нарубил бревна длиной в три с половиной топорища, мы перетащили их на берег и соорудили из них плот. Шести таких бревен было достаточно, чтобы плот выдержал нас. В двух из них по концам мы сделали углубления и соединили их поперечными бревнами, на таком расстоянии, чтобы остальные уместились между ними под поперечными бревнами снизу. Уложены они были без всякого крепления, лишь небольшая выемка не давала им выскользнуть. А если на них наступить, они ушли бы под воду, сбились бы. Следовательно, мы должны были сидеть на боковых бревнах, скрепленных поперечинами. Для равновесия мы сверху уложили еще несколько бревнышек. И на таком на скорую руку сооруженном плоту пусть медленно, но благополучно мы переправились через пролив в полверсты шириной. Мужик рассказал, что ему часто доводилось переправляться таким образом. И он клал лишь одно поперечное бревно между боковыми, а теперь ради меня положил два.
В Колвасъярви я зашел в дом Хуотари. Старый хозяин провел меня в отдельную комнату и поинтересовался относительно моей поездки. Я без утайки ответил на все его вопросы и, в свою очередь, спросил, могу ли я чувствовать себя в безопасности, странствуя по этим краям? Он сказал: «В десять раз спокойнее, чем у вас, где человека могут избить до смерти». Была такая история. Не так давно сын одного богатого крестьянина из их прихода поехал в Финляндию и подкупил там мужчину, чтобы отправить вместо себя в солдаты, но тот, получив деньги, убил его. Однако вскоре мы пришли к общему мнению, что поделом таким вербовщикам. Когда же я заметил, что здешние крестьяне всю долгую зиму торгуют у нас вразнос и ничего плохого с ними не случается, он согласился, что в общем-то и в нашей стране вполне безопасно. «Но все-таки у нас спокойнее, — продолжал он. — Могу заручиться всей своей собственностью, что куда бы вы ни пошли, вас никто не тронет, ни один волос не упадет с вашей головы». Не успел он это сказать, как вошел его сын и резко прервал его словами: «Отец! Не ручайся за то, чего не знаешь». И он рассказал о беглых солдатах, которые прячутся по лесам, а кое-где и по деревням и которым может взбрести в голову вывернуть карманы у человека, а чтобы скрыть свое черное дело, помочь ему отправиться в мир иной.
Отсюда я проделал пешком путь длиной в пятнадцать верст до Репола. Разговор в доме Хуотари запал мне в голову, поэтому я несколько раз сходил с дороги, дабы разбойник, если ему вздумается преследовать меня, мог без лишнего шума пройти мимо. Но, видимо, моя предосторожность была излишней — ни в тот раз, ни позже подобные неприятности со мной не случались. Репола — центр прихода, иначе говоря, погост. Здесь живет богатый крестьянин Тёрхёйнен, к которому я и зашел. Он попросил меня показать паспорт, и я предъявил его. Бегло пробежав глазами текст, переведенный на русский, он спросил, когда я выехал из Куопио? Я сказал, что более трех недель тому назад. «Но паспорт получен менее двух недель назад, как же вы это объясните?» Я стал изучать свой паспорт и увидел, что он помечен вторым августа по новому стилю, та же дата стояла под русским переводом, где следовало поставить 21 июля по старому стилю. Я пояснил ошибку, и Тёрхёйнен сразу все понял. Позднее, когда мы остались вдвоем, он признался, что вначале подумал, не подослали ли меня отравлять их колодцы, поэтому и спросил с такой строгостью про паспорт. И сказал, чтобы я не обижался, если кто-нибудь примет меня за такового. «Вот ведь было же в Салми такое...», — и он вкратце рассказал о нашумевшей во время эпидемии холеры истории. «Неужели вы верите вздорным слухам об отравлении колодцев?» — спросил я у него. «Положим, я не верю, — ответил он, — но другие-то верят, и не вздумайте доказывать им обратное». Выпив у него несколько чашек чаю и перекусив, я отправился с тремя крестьянами через озеро в деревню Вирта, где и заночевал. [...]
От Каскиниеми до Роуккула, где на расстоянии в двадцать верст не было ни одного дома, я шел без проводника. Под конец я заблудился, свернул на какую-то тропу, и она вывела меня на берег озера, по другую сторону которого виднелись клочки пахотной земли. И хотя поблизости не было видно жилья, я все же прикинул, что оно где-то недалеко. Я решил обогнуть озеро, что оказалось делом нелегким, так как пришлось брести по топким болотам, проваливаясь иногда выше колена.
Не зная, с какой стороны короче путь, я свернул налево и вдруг увидел перед собой широкий ручей. Чтобы переправиться через него, я довольно долго шел вдоль ручья, но моста видно не было. Вот где пригодился бы плот, на котором мы переправились через пролив между озерами Осма и Колвас. Тут меня осенило — ведь можно перебросить вещи на тот берег. Сначала я перекинул сапоги, а чтобы они лучше летели, положил вовнутрь по камню. Перебросив их отличнейшим образом, я столь же удачно переправил все остальное, кроме пиджака, который, будучи связан в узел, развязался и упал в ручей, как подстреленная утка. Я ринулся в воду и, подхватив не успевший затонуть пиджак, выбрался на берег и начал собирать разбросанные по земле пожитки. Тут подошли две женщины, издали наблюдавшие за моей переправой: «Вам бы пройти немного выше, там ведь мост. Мы хотели крикнуть вам, но вы уже были в воде». Я подумал, что ничего страшного не произошло, и спросил у женщин, далеко ли деревня. «В полутора верстах отсюда», — ответили они. Именно эта деревня и была мне нужна.
Теперь, наверное, было бы уместно поговорить немного о здешних финнах, которые с давних пор являются подданными России и, вероятно, со времен Владимира Великого[43] — православными. Они называют себя «веняляйсет»[44] [русские]. По-видимому, в прежние времена так называли финнов, проживавших в этих краях, а теперь в Финляндии это название применяют по отношению ко всему русскому народу[45]. Финнов, живущих на нашей стороне, они называют шведами, а нашу страну Руотси — Швецией или Землей шведов. В некотором отношении их обычаи и обряды нравятся мне даже больше, чем те, что бытуют у нас. Так, например, они лучше, чем в целом ряде мест у нас, следят за чистотой. У здешних финнов не встретишь жилья, чтобы не были вымыты полы, а подчас до такого блеска, как в любом господском доме. Избы здесь такие же, как в Саво, с дымоволоком на потолке, но в них больше окон, обычно восемь — десять, часть которых застеклена, а другая — без стекол. В избах Саво окон меньше, обычно четыре — шесть, но там они большего размера. У финнов, живущих в России, подклеть в избах выше, там хранится у них ручной жернов и прочая хозяйственная утварь. Жилые помещения всегда соединены со скотным двором, являющимся как бы продолжением крестьянского дома. От избы хлев отделен сенями, из которых ступени ведут вниз, в скотный двор. Я говорю об этом не для того, чтобы перечеркнуть свои слова о чистоплотности людей, которую только что превозносил, наоборот, когда люди и животные находятся так близко, этот вопрос становится еще более важным. У нас жилые помещения располагаются всегда отдельно от скотного двора, и люди позволяют себе особо не заботиться о чистоте.
Хорошим обычаем у здешних финнов является то, что в каждой деревне покойников хоронят на своем деревенском кладбище. Наши же суеверия привели к тому, что покойника зачастую везут за четыре-пять миль, чтобы похоронить на кладбище у церкви. Нетрудно заметить, сколь это обременительно и даже противоестественно. Неудобства этого обычая особенно ощутимы во время эпидемий. Когда года полтора тому назад были выделены отдельные кладбища для холерных, в ряде мест возникли беспорядки, связанные с тем, что народ не соглашался, чтобы кого-то из покойников хоронили в неосвященной земле, тогда как для остальных это преимущество оставалось. Ежели бы у нас, как у православных, в каждой деревне было свое кладбище, то все проблемы с холерными кладбищами были бы решены, не говоря уже о прочих.