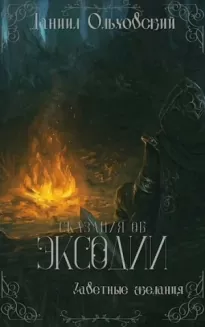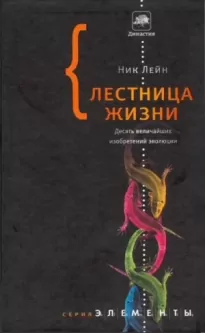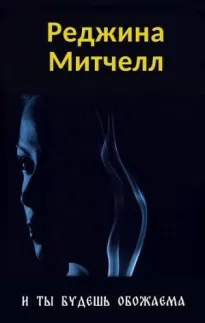О чем говорят и молчат почвы
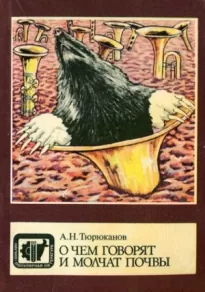
- Автор: Анатолий Тюрюканов
- Жанр: Биология / Сад и огород
- Дата выхода: 1990
Читать книгу "О чем говорят и молчат почвы"
Примерно в V—VI веках нашей эры земледелие стало ведущим направлением в хозяйстве славян–вятичей. Одновременно изменялось и совершенствовалось гончарное производство, изменялся тип жилища, росли связи с племенами из Прибалтики, Приднепровья, Причерноморья, о чем свидетельствуют многочисленные находки вещей неместного происхождения. Особенно значительный “расцвет” земледелия наступил в конце I тысячелетия нашей эры, то есть примерно 1000 лет тому назад. Богатый и разнообразный сельскохозяйственный инвентарь: железные сошники, серпы, косы, топоры — свидетельствует о существенном прогрессе в земледелии. Лошадь все больше использовалась как тягловая сила. В пищевом рационе конину вытесняло мясо рогатого скота.
Славяне–вятичи селились по берегам рек Оки, Жиздры, Угры, Выссы, Брыни, Зуши и др. На высоких берегах этих рек они создавали города–укрепления, из которых наиболее известны Мещовск, Козельск, Воротынск, Перемышль, Серпейск, Серенск. Вокруг городов и поселков располагались пашни, засеянные в основном зерновыми культурами (рожь, овес). На широких пойменных лугах пасся скот. Пашни возникали сначала на естественных полянках, разбросанных среди лесов паркового типа. Постепенно пашни расширялись за счет вырубки и выжигания лесов. Раннее развитие земледелия оказало существенное влияние на характер естественной растительности ополий.
Ознакомление с историческими данными и обобщение материалов наших почвенных исследований позволяют высказать мнение, что в прошлом (V—Х века нашей эры) ополья имели свой специфический облик растительного покрова, который можно определить как луголесье. Дубравные леса паркового типа чередовались с луговыми и отчасти с болотными угодьями. Леса занимали все возвышенности, оставляя понижения влажно–луговым и болотным ассоциациям. Мягкие формы рельефа, длинные пологие склоны и плоские обширные неглубокие западины определяли сравнительно большие размеры полян с их луговой и лугово–болотной растительностью и специфическими темноцветными, хорошо увлажненными слабокислыми почвами, обладавшими сравнительно высоким плодородием. Наиболее возвышенные участки (Сухиничи, Козельск, Воротынск и другие), по–видимому, были сильно облесены, леса здесь располагались большими массивами — засеками. Здесь и пряталось население древних городов во время набегов врагов. В пониженных частях ополий лесов было меньше, к тому же они располагались небольшими очагами, разделенными влажно–луговыми полянами. Поэтому нельзя оценивать ополья только как исторически лесной край или как огромное поле или степь. Скорее, это ландшафт луголесья.
Послеледниковая история опольных ландшафтов, как уже говорилось, связана с обсыханием территории, разгрузкой грунтовых вод в реки, потеплением климата, усилением биогенности всего ландшафта и, наконец, земледельческой историей человека.
Сведение лесов, разрушение мелких плотин на реках, несоблюдение агротехнических и агрохимических рациональных приемов, разгрузка горизонтов грунтовых вод, возникновение водной эрозии и другие явления естественного и антропогенного характера сильно изменили природный вид ополий, направляя процесс их эволюции от исходного палеопойменного влажно–лугового состояния к лесостепному. Облик ополий все более изменялся и, наконец, в XIX—XX веках принял современный почти безлесный вид. Островной характер ополий и, как правило, положительный знак новейших тектонических движений на их территории привели к врезанию окраинной гидрографической сети и дренированию верхнего горизонта грунтовых вод. Капиллярный подток влаги в почву из грунтовой воды прекратился, почвы из гидрогенно–лугового типа почвообразования все более развивались в сторону “атмосферного” (дернового и лесного) почвообразования.
Наряду с изменением гидрологической обстановки в опольях, приведших к ухудшению водного режима почв, появились и другие отрицательные явления. Один из парадоксов земледелия состоит в том, что углубление пахотного слоя до 22—24 сантиметров, свершившееся с приходом на поля мощных тракторов, привело к смешению верхнего, самого плодородного, слоя с менее гумусным и менее плодородным (в старину глубина вспашки составляла 10—15 сантиметров). Многократная обработка почвы “усреднила” столетиями складывавшийся биоаккумулятивный горизонт (0—10 сантиметров) с нижележащим, что в конечном итоге привело к снижению плодородия. Усиление технической базы земледелия, вложение больших средств не дает ожидаемого крупного эффекта, ибо проблема повышения уровня сельского хозяйства в опольях необычайно сложна. Плотины на речках, пруды и водоемы в оврагах и балках, лесополосы на полях, травопольные севообороты, семеноводство, система удобрений, развитие племенного животноводства — вот не полный перечень вопросов, решение которых улучшит хозяйствование в опольях.
Почвы ополий Центральной России представляют собой благодарный объект для внедрения прогрессивной системы земледелия. Интенсификация сельскохозяйственного производства, включающая внедрение апробированных временем, научно обоснованных севооборотов, увеличение доз и сортимента удобрений, улучшение водного режима территорий, безоговорочная борьба с эрозией почв, восстановление травосеяния как важного условия повышения и защиты почвенного плодородия и улучшения кормовой базы животноводства, соблюдение норм и правил агротехники, успешная селекционная работа с сельскохозяйственными культурами, возделываемыми в опольях, — все эти меры в совокупности при хорошей организации и управлении неизбежно приведут к восстановлению и резкому подъему биопродуктивности опольных ландшафтов.
Изучая почвы ополий на современном уровне, очень полезно прочитать “сверхвнимательно” труды ранних исследователей ополий. У этих тружеников не было многого из того, что есть сегодня у нас. Но они были полевиками–исследователями почв в конкретных лесах, лугах, болотах, на сельхозугодьях. Каждый из них за свое почвоведческое житие выкопал много почвенных разрезов и прикопок, описал почвы, сопоставляя их, как учил В. В. Докучаев, с приуроченностью к разным элементам рельефа, к разным материнским породам, к разной растительности, климату и к разным типам хозяйствования. Они не имели информативных аналитических результатов исследований, но были неторопливы и внимательны. Время не бежало у них так быстро, как у нас. Центр тяжести их работы приходился на наблюдения и описание почв: не толкование аналитических таблиц, а морфологические описания. Сегодня, когда приоритет отдается результатам тонких спектральных, электронно–микроскопических и даже лазерных исследований, морфологические описания почв кажутся архаизмом. И тем не менее эти описания — наша классика.
Просматривая описания почв в отчетах старых почвоведов, часто встречаешь слова: черный, черноватый, очень темный, черно–серый и другие. В описаниях современных нам почвоведов таких цветовых оттенков не найти. Черный оттенок в описаниях теперь не встретишь, доминируют оттенки серого цвета. В чем дело? Неужели за один век произошла эволюция цветового зрения. Маловероятно. Изменился цвет наших почв. Сказалась так называемая “выпаханность”, а еще хуже “окультуривание” почв.
Когда первые почвоведы в конце прошлого века писали о юрьевском черноземе, они были правы. Когда мы говорим не о юрьевских черноземах, а об опольных почвах — опольцах и ополицах — мы тоже правы. Нас разделяет эпоха не окультуривания, а физического (технического) и химического насилия над почвами. Вторые гумусовые горизонты опольных почв (ополиц) на глубине 30—50 сантиметров — это нижние хвостики былых черногумусовых горизонтов юрьевских черноземов. Так, в сравнении разновременных морфологических описаний почв ополий мы видим то, чего не даст ни один современный анализ. Хочется крикнуть: “Почвоведы, берегите старые образцы почв!”. Они будут эталонами при сравнении почв во времени. Создавайте коллекции почв, продолжите, пожалуйста, великое дело Николая Ивановича Вавилова!
Мы привезем грунт с Луны и Венеры, Марса и других планет, но мы никогда не воссоздадим почвы XIX и XX веков, если вовремя не создадим банк почв, датированных по времени взятия образцов. И, конечно, нужна Красная книга почв!
Ополья Центральной России становятся сейчас местом паломничества туристов, желающих увидеть “откуда есть пошла Русская земля”, поклониться народному гению, создавшему уникальные памятники Владимира, Суздаля, Юрьева–Польского и других городов. Памятники старины великолепны не только, да и не столько своей кладкой, материалом или пропорциями. Главное в них — их способность фокусировать на себе “душу” ландшафта. Вспомните, как среди пойменных лугов устья Нерли стоит очаровательная церковь Покрова на Нерли, которой очень идет сравнение с девушкой, гуляющей среди луговыхцветов и смотрящейся в прозрачную воду. А вдали, на высокой горе города Владимира стоит статный витязь в старинном шлеме — Дмитровский собор. И они видят друг друга, видят всю славную землю Владимирскую вот уже 800 лет. И как бы говорят нам: “Люди, берегите нашу землю — мать Ополье”.
За Владимиром и Суздалем настанет черед Стародубу и Трубчевску, Касимову и Новгороду — Северскому и другим городам, чьи земли и воды взлелеял русский народ.
Чтобы опольные земли не были опальными, надо часто вспоминать о своей прародине, ее истории и славе, а вспоминая, поведать о них внукам и правнукам нашим. Рассказывая о былом и настоящем ополий, надо открыть потомкам одно простое правило, сформулированное всей историей науки о земле: чтобы где–либо преобразовывать природу, надо сначала ее изучить.
Главная сила человечества — это его знания, а не киловатты, тонны или рубли. Вот почему хочется пожелать не торопиться “преобразовывать” ландшафты ополий, ибо знаем мы о них крайне мало, а лучше, полнее их изучать, стремясь сначала восстановить неразумно нарушенные связи в природе ополий, и лишь потом, приложив знания, начать сотрудничать с землей на взаимовыгодной основе. Ополья Центральной России — это материнское сердце страны. Так пусть же оно бьется бесперебойно и ритмично на радость и счастье потомкам.
Реки Русской равнины разделяют, как правило, два типа ландшафтов: возвышенные суглинистые ландшафты ополий и низменные и заболоченные ландшафты полесий. К типичным песчаным полесьям относится и воспетая К. Г. Паустовским Мещёра — край озоновых сосновых боров, комариных болот, тихих лесных озер и речек. И почвы здесь — то песчаные бедные лесные, то болотные, от минеральных заболоченных до мощных торфяных. При рассказе о Мещёре, начинающейся на окраинах Москвы и уходящей на восток почти до Мурома, следует напомнить о больших различиях между северной, более кислой и заторфованной, Мещёрой и южной приокской, где в почвах ощущается дыхание подстилающих известковых пород и жестких грунтовых вод.
Современная Мещёра — легкие Москвы, но не надо забывать, что одновременно это скрепленные лесом и влажными болотами подмосковные Каракумы. Сведение лесов и спуск воды экологически неграмотными мелиораторами в ряде случаев уже привели к созданию подвижных песков.