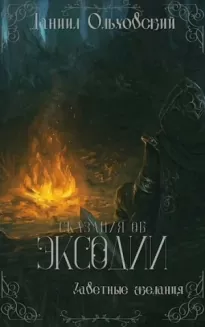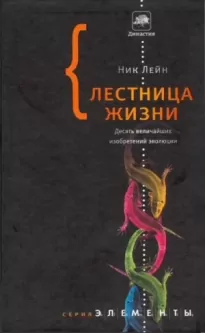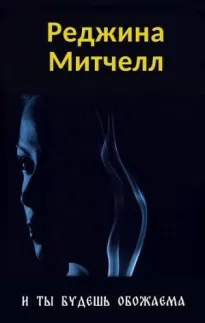О чем говорят и молчат почвы
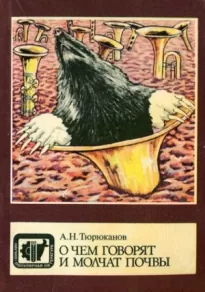
- Автор: Анатолий Тюрюканов
- Жанр: Биология / Сад и огород
- Дата выхода: 1990
Читать книгу "О чем говорят и молчат почвы"
Но вот неожиданно слово “почва” замелькало в лексиконе людей. Это были преимущественно пожилые, видом вполне приличные, а иногда и просто интеллигентные люди разных национальностей. Кто они? В социально–общественном смысле они оказались садоводами–дачниками, которые на своих 4—6 сотках глубоко озабочены плодородием, воссоздают на изуродованной техникой земле дотоле невиданные почвы. Еще рано это явление обобщать в социальном, а тем более в биосферном планах, но симптомы подобного доброкачественного заболевания уже очевидны. Жаль только, что землицы у них мало, у этих первопроходцев сельского хозяйства будущего.
Как бы предвидя садово–огородный бум горожан, великий Карел Чапек писал о нас и для нас:
“Человек, в сущности, совершенно не думает о том, что у него под ногами. Всегда мчится как бешеный и самое большее — взглянет, как прекрасны облака у него над головой или горизонт вдали, или чудесные синие горы. И ни разу не поглядит себе под ноги, не похвалит: какая прекрасная почва! Надо иметь садик величиной с ладонь, надо иметь хоть одну клумбочку, чтобы познать, что у тебя под ногами. Тогда, голубчик, ты понял бы, что облака не так прекрасны и грозны, как земля, по которой ты ходишь. Тогда научился бы различать почву кислую, вязкую, глинистую, холодную, каменистую, засоренную. Тогда узнал бы, что персть бывает воздушная, как пирог, теплая, легкая, вкусная, как хлеб, и назвал бы ее прекрасной, как называешь женщин или облака. Тогда испытал бы особенное чувственное наслаждение, видя, как твоя трость уходит на целый локоть в рыхлую, рассыпчатую почву, или сжимая в горсти комок, чтоб ощутить ее воздушное и влажное тепло.
А если ты не поймешь этой своеобразной красоты, пускай судьба в наказание подарит тебе несколько квадратных сажен глины, твердой, как олово, глины, лежащей толстым слоем, глины материковой, от которой несет холодом, которая прогибается под заступом, будто жевательная резинка, спекается на солнце и закисает в тени; глины злой, неуступчивой, мазкой, печной глины, скользкой, как змея, и сухой, как кирпич, плотной, как жесть, и тяжелой, как свинец. Вот и рви ее киркой, режь заступом, бей молотком, переворачивай, обрабатывай, изрыгая проклятия и жалуясь на судьбу. Тогда поймешь, что такое вражда и коварство бесплодной, мертвой материи, нипочем не желающей стать почвой для всходов жизни. Уяснишь, в какой страшной борьбе, пядь за пядью, отвоевывала себе место под солнцем жизнь, в любой ее форме — от растительности до человека.
И еще ты узнаешь, что земле надо давать больше, чем берешь у нее…”
Общепризнано, что самые богатые почвы нашей страны — кубанские черноземы. Расположенные на подгорной равнине и нижних террасах реки Кубани, эти почвы в своей эволюции прошли гидроморфно–луговую стадию, ту стадию, когда идет максимальный синтез почвенного гумуса в условиях оптимального увлажнения и тепла. Кубанские черноземы имели мощность гумусовых горизонтов более 1 метра, суглинистый или глинистый состав, обильную почвенную микрофлору и фауну, содержали до 10 процентов почвенного гумуса и потому давно прослыли зерновой житницей России. Кубанская пшеница была символом богатства края, его визитной карточкой. Так было до тех пор, пока четверть века назад кому–то не пришла в голову мысль превратить Кубань в зону рисосеяния, а затем, приняв непродуманное решение, приступить к коренной перестройке кубанских ландшафтов.
Как известно, для рисосеяния необходимо огромное количество воды. Но где ее взять? Решено было построить водохранилище у Краснодара объемом 3 кубических километра воды, а зону рисосеяния расположить ниже города. Пока шло наполнение водохранилища для последующего сброса на рисовые поля, самое биопродуктивное опресненное море в мире — Азовское море — недополучало этих кубических километров, и по закону сообщающихся сосудов через Керченский пролив начала активно поступать в Азовское море соленая черноморская вода. Это резко изменило экологию кубанских плавней и всего Приазовья. Богатейшие рыбные ресурсы водоема, таким образом, оказались обреченными.
Кубанская равнина, включая плавни, имела пестрый, сравнительно неровный микрорельеф, а для рисосеяния необходимы ровные, как стол, поля — чеки. Выровнять рельеф для мелиораторов оказалось делом нехитрым. Мощная техника сгребла верхний горизонт знаменитых кубанских черноземов в валики, отделяющие один рисовый чек от другого. Таким образом, в валиках оказался 6—8%-ный по гумусу верхний горизонт кубанских черноземов. Назад возврата не было. Рисосеяние набирало силу, осушались плавни — лучшие нерестилища ценных пород рыб и т. д. На рисовые плантации начали подавать кубанскую воду (1/3 ее годового стока). В столь благоприятных условиях, кроме риса, обильно разрослись сорняки — ежовник, рогоз, клубнекамыш и другие. Борьба с ними велась и ведется с применением гербицидов.
Гербициды делали свое дело на рисовых полях, а потом попадали в каналы и поступали в море. Набор гербицидов был разнообразный, а количество достигало 5 и более килограммов на гектар. Добавьте сюда большие (до 1,5 тонны на гектар) дозы минеральных удобрений… Полное незнание экологии и сложных внутриландшафтных геохимических связей, неспособность предвидеть последствия да фанфарный трезвон средств массовой информации сделали свое дело. Проблема Кубани стала практически неразрешимой: слишком много в нее было вложено неверных решений и человеческой глупости. Рисовые совхозы богатели. Да как же им не богатеть, если за 1 килограмм произведенного риса они получали в три раза больше, чем он стоит в магазинах. Странная экономика…
Можно или нельзя теперь что–либо поправить? Это вопрос сложный, но одно известно точно: черноземов не вернуть. Возраст этих почв, время, пошедшее на их образование, значительно больше, чем время существования человека на здешней земле.
Вот так “прославилась” Кубань, которую в начале 60‑х годов прочили в главные соперницы американскому зерновому штату Айова.
Для наших почв наступило время “гонок с выбыванием”. Рисосеяние, пришедшее на земли Терско–Сулакской низменности Дагестана, привело к засолению на больших территориях почв. К сожалению, этот процесс тоже необратимый.
И все же думается, что главной жертвой наших деяний стали долины рек, в особенности долина Волги — главной голубой улицы России. В интересах энергетики были затоплены обширные поймы Волги, Днепра, Шексны, Мологи, Камы и многих других равнинных рек нашего Отечества. А в этих поймах была красота речек и стариц, слава вологодского масла, пресноводных рыб и раков. Ушли под воду не только прекрасные пойменные почвы с плодородными луговыми угодьями, вскормившими лучшие породы скота и знаменитую конницу. Было затоплено и нечто большее — кровеносная система огромных территорий, которые взлелеяли великий народ. Затопили красивейшие ландшафты Родины, а вместе с ними много старинных городков, селений и кладбищ. Затопили многие страницы нашей истории и никто не крикнул о великой боли нашей земли, ордена, медали и премии были наградой покорителям природы.
Хочется верить, что недалек тот день, когда откроются все шлюзы на реках, выступят из–под воды былые искореженные поймы и вздохнет седой Каспий. А волжские дамбы и плотины будут посещать миллионы паломников так, как сейчас посещают пирамиды египетских фараонов. Только можно ли будет восстановить прежнее плодородие этих пойменных почв? Вернутся ли они в прежнее состояние? Неизвестно. Нужен обратный эксперимент. И думается, что первым шагом должен стать спуск Рыбинского моря, где по идее должна возникнуть крупнейшая овощекормовая база Нечерноземья и Подмосковья.
Энергетически Рыбинская плотина малоэффективна, а земли, затопленные и подтопленные ею, были одними из лучших в Нечерноземье. Дно Рыбинского моря может стать крупнейшим экологическим полигоном глобально–биосферной значимости. Вернуть Молого–Шекснинскую низменность в категорию сухопутных ландшафтов — это значит познать степень обратимости или необратимости наших деяний в природе.
Здесь же хочется сказать спасибо общественности, немногим ученым и писателям за то, что они, как люди с обостренным чувством гражданственности, остановили новую расправу над ландшафтами нашей Родины — переброску рек, то есть поворот части стока северных рек на юг.
Экологический и экономический вред, нанесенный нашим поймам, велик. Он стал возможен только потому, что в споре двух стихий — почвы и воды — первые не имели цены и не могли крутить колеса технического прогресса. Мы добровольно, без боя отдали наши поймы под затопление, мы лишили животноводство кормовой базы, а перед собой воздвигли продовольственную проблему. Такого расточительства не знает ни одна страна в мире.
Примерно в 1970 году к автору этой книги обратился один почвовед–мелиоратор с просьбой помочь разобраться и ответить на вопрос, поставленный “сверху”: какие республики и регионы дают максимальную прибыль в расчете на 1 рубль, вложенный в мелиорацию их почв. Есть определенный порядок в перечислении наших республик, начиная от РСФСР и Украины и кончая малыми республиками Прибалтики. Так вот, глядя на итоги расчетов, очень трудно было понять причину резких колебаний этой прибыли по республикам. Пришлось нарушить этот трафарет и расположить республики в порядке убывания прибыли, получаемой от мелиорации. И оказалось, что первые места заняли Таджикистан и Прибалтийские республики, а последние — Украина и РСФСР. В чем причина? Ответ был прост. Все дело в человеческом факторе. Республики, имеющие многовековой традиционный опыт водопользования в земледелии — оросительные мелиорации в Средней Азии и осушительные в Прибалтике, — вышли на первые места. А Украина и РСФСР впервые соприкоснулись с такими мелиоративными задачами. Вскормленные на сытых черноземах наших степей, где, как говорится, люди всегда ели “сало с салом”, они оказались беспомощными как–то отреагировать на грандиозный всплеск мелиорации.
Этот поучительный пример одновременно и горький упрек тем, кто не считается с традиционными нормами и формами, а равно и типом мышления конкретных народов и этнических групп.
Несколько слов (к сожалению, несколько) надо сказать о химизации наших почв.
Природа не знала удобрений и благополучно прожила до нашего прихода почти четыре милиарда лет. Мы додумались (правда, не мы, а неандертальцы, по–видимому) до удобрения навозом. Шли тысячелетия и столетия, в конце XVIII, а в основном в XIX веке в Германии обнаружили положительное действие на урожай азота, фосфора и калия. Азот получали из птичьего гуано, фосфаты из костей животных, а калия в Германии было много — Страсфуртские залежи. Первым, кто открыл пользу ненавозных удобрений в сельском хозяйстве, был немецкий химик Юстус Либих. Но речь сейчас не о нем.
Немецкое земледелие получило сильный импульс, но к началу XX века стало ясно, что на одних минеральных солях далеко не уедешь. Начало XX века подарило миру замечательного ученого Эльхарда Митчерлиха и промышленный способ связывания азота Габера–Боша.