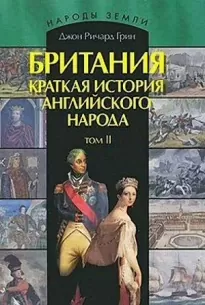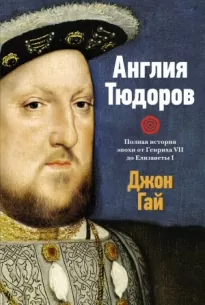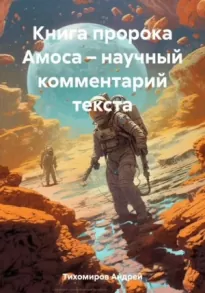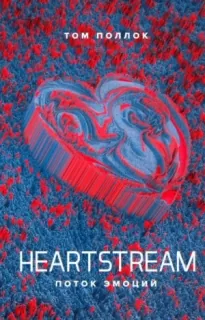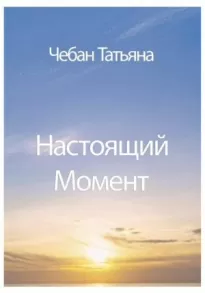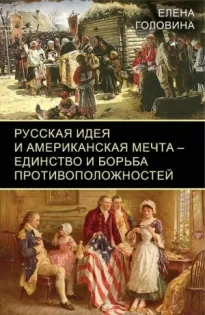Будущее упадка. Англо-американская культура на пределе своих возможностей

- Автор: Jed Esty
- Жанр: История: прочее
Читать книгу "Будущее упадка. Англо-американская культура на пределе своих возможностей"
Проблема упадка в Америке - это не только проблема меланхолии в стиле Великобритании. Американцы вынуждены бороться со смешанным наследством: отчасти меланхолической привязанностью к утраченной власти, отчасти ослепляющим оптимизмом по поводу возможности того, что власть не была действительно или навсегда утрачена. Из-за этого противоречия американская культура бесконечно вращается вокруг вопроса о своем статусе и власти, вместо того чтобы просто признать, что ее гегемония реальна и огромна, но непостоянна и уже угасает.
Поскольку американский оптимизм окрашен тревогой, меланхоличные истории об осени и сумерках, упадке и крахе - или о возрождении величия - всегда занимают центральное место. Траектория упадка в США иная, чем в Великобритании, но наша версия ностальгии по сверхдержаве часто следует британскому прецеденту. Британские истории и идеи формировали популярные представления об имперской славе (утраченной или обретенной) на протяжении многих поколений. Они укоренились в английских СМИ, которые распространились по всему миру. Как отмечает Фарид Закария: "Британия, пожалуй, была самым успешным экспортером своей культуры в истории человечества. Сегодня мы говорим об американской мечте, но до нее существовал "английский образ жизни"" (187).
Другими словами, в американской культуре есть забавный парадокс. Она началась с восстания против британского суверенитета и на протяжении многих поколений определяла себя в противовес ценностям правящего класса Великобритании - короне, империи и традициям. И все же в Золотой век Голливуда, в преддверии американской гегемонии, идеология империи вновь вошла в американскую кровь, адаптированная для массового общества и технократического государства. Средневековый термин translatio imperii, который когда-то описывал божественную преемственность императоров, позже стал обозначать дрейф власти на запад. Он мутировал в доктрину "явной судьбы" для устремленных американских поселенцев (Стефенсон). В середине века американцы могли верить, что солнце заходит за Тихий океан, бросая свои последние золотые лучи на новую медиастолицу двадцатого века, Лос-Анджелес. Исторической основой голливудских жанров издавна были взлеты и падения империй, романтика завоеваний и пограничные приключения. Американцы научились представлять свое место в мире холодной войны через неовикторианское видение Голливуда. Когда я слышу, как люди жалуются на переработанные супергеройские франшизы и омерзительные фабрики сиквелов современного Голливуда, я удивляюсь вдвойне. Во-первых, потому что студийная система была построена на формулах и повторениях. А во-вторых, потому что многие формулы, особенно для боевиков, были заимствованы из повествований о героях девятнадцатого века. Вестерны пересказывали пограничные конфликты британских завоевателей по всему миру. Викторианские мифы, такие как Драк-ула, Шерлок Холмс, Человек-невидимка, Война миров и Остров сокровищ, стали движущей силой раннего Голливуда. Американская медиаимперия середины века не просто снимала сиквелы. Она была сиквелом.
Классический Голливуд расширил и адаптировал замечательную индустрию сказок поздневикторианской Британии. Эти две фабрики грез говорили по-английски со всем миром. Они разработали особый набор шаблонов повествования для глобальной аудитории (Джоши). Экономические и символические преимущества этой экспортной торговли продолжают накапливаться. "Фильм для Америки, - писал анонимный рецензент в лондонской Morn-ing Post в 1926 году, - то же самое, что флаг для Британии".1 В 1980-х годах Стюарт Холл изумлялся: "Империи приходят и уходят. Но образ Британской империи, похоже, обречен существовать вечно. Имперский флаг был спущен в сотне разных уголков земного шара. Но он все еще развевается в коллективном бессознательном" (Hard Road 68). И это по-прежнему так, сорок лет спустя. Печально известное обращение Редьярда Киплинга к американцам в 1899 году с призывом "взять на себя бремя белого человека" долгое время считалось расистским антиквариатом, но основной посыл, заключающийся в передаче превосходства от британцев к американцам, остается подтекстом в популярной культуре по обе стороны Северной Атлантики. Многие из яростно патриотических языков американского авантюризма - как сверхдержавы и, возможно, даже более токсичного как бывшей сверхдержавы - берут свое начало в бравурном языке викторианской "Большой игры". Старые британские мифы о глобальном господстве кристаллизовали формы расовой вражды - "желтая опасность", "красный испуг", "мусульманская угроза", - которые формировали не только геополитику, но и американские сюжетные конвенции в эпоху холодной войны и после нее. Старые мифы об англосаксонской христианской добродетели скрепляют британскую империю с американской гегемонией, морализируя историю завоеваний, добычи и расового капитализма. В них, пусть и негласно, прославляется превосходная способность англо-американских белых мужчин изобретать, производить, управлять и управлять природой и другими народами.
Викторианские и неовикторианские жанры заложили привычки мышления, которые укрепляют как удачу, так и добродетель белых победителей истории. Превосходство белой расы и англо-американское правление переплелись в длинной школьной программе империи и вошли в народную культуру США. Но у этих повествовательных формул есть и обратная сторона. Как триллеры, они также имеют тенденцию подчеркивать уязвимость англо-американского ядра перед вторжением и вырождением. Вспомните британские звездные франшизы последнего столетия, от архетипического вампира (Дракулы) и детектива (Шерлок Холмс) 1890-х годов, фэнтезийные королевства (трилогия Толкиена) и фэнтезийная геополитика (романы Флеминга о Бонде) середины века, вплоть до волшебного мальчика-героя Гарри Поттера 1990-х годов. В центре всех этих историй - архаичные социальные формы: кровососущая аристократия у Стокера, вырождающаяся империя у Конан Дойла, средневековая аллегория у Толкиена, глобальные приключения британцев у Флеминга и тонизирующие чары викторианской государственной школы у Роулинг. Нити успешных англоязычных масс-культурных историй сходятся на темах старых социальных иерархий, поддерживаемых разрушенной империей, социального порядка, которому угрожают коррумпированные злодеи, но который защищают маловероятные герои. Эти британские мифы перерабатывают гламур глобального правления и страх перед национальным вырождением.
Британские мифы о свободе имеют общий исторический силуэт с американскими мифами о свободе. Оба они были закреплены в те времена, когда эти близнецы-гегемоны представляли себя в качестве авангарда современности и поборников человеческой свободы. Неизменное мифическое ядро либерального империализма как в его викторианском британском, так и в американском воплощении времен холодной войны говорит о склонности белых, западных или даже конкретно WASP к свободным рынкам и честной игре, к героическим открытиям и заморскому владычеству (Грин). Как отмечает Приям-вада Гопал, эта специфическая англо-американская фантазия рассматривает свободу как дар англоязычным народам, от них и для них, а также как "франшизу, щедро распространяемую на народы по всему миру" (3). Основной парадокс - свобода, навязанная силой, - никогда не может быть полностью стабилизирован в теории или практики. Поэтому она требует мифического выражения. Ее противоречия постоянно порождают новые истории. Она породила целую англоязычную популярную культуру, сосредоточенную на том, что мы можем назвать триединой мифологией слабых государств, сильных рынков и свободных индивидов.
Мифология слабого государства/сильного героя формирует многие жанры в романтико-приключенческой традиции популярной культуры Великобритании и США. В них герои решают проблемы и спасают людей, потому что безличное, неэффективное или враждебное государство не может этого сделать.2 Миф о слабом государстве - одна из самых влиятельных британских идей, передающихся по кровеносной системе в США, и он помог увековечить представление - даже в период высокого кейнсианства 1940-1970 годов - о том, что индивиды и рынки лучше, чем коллективы или государства, делают выбор. Этот тип индивидуалистического мышления - пережиток викторианской эпохи. Либеральные гегемоны Великобритании и США создали для своих образованных элит возможность верить в то, что свободный индивид является высшим социальным актором. Фантазия об автономной самодостаточности скрывает в себе глубокую привязанность к аристократическому представлению о привилегиях и превосходстве. Ее американизированная, модернизированная версия - самодельного (белого) человека - является локусом консервативных политических желаний. Он действует как псевдопопулистская фантазия об одиноких достижениях, неотъемлемых социальных отличиях и с трудом завоеванном богатстве.
Двойная фантазия о саморегулирующихся субъектах и саморегулирующихся рынках - это воображаемый фундамент мифологии слабого государства. В реальности, конечно, Великобритания и США всегда смешивали политику свободной торговли и протекционизма. Проповедь торгового либерализма и защита экономических преимуществ привели США к огромному мировому богатству, как и Британскую империю. В условиях кризиса национального упадка утрачивается именно этот миф о свободной торговле, мифический самообраз экономического гегемона, льстиво изображаемого в качестве крестоносца за глобальный laissez-faire. Трампизм знаменует собой место крушения этого самовосприятия. Изоляционистский и протекционистский поворот в движении Трампа обнажает американскую слабость и одновременно трубит о силе.
На культурном уровне, конечно, риторика Трампа - это попытка переработать Рейгана - уже рекурсивное упражнение в ностальгии по ностальгии (по англо-американскому правлению). Источники власти Америки на спаде - финансы и вооруженные силы - мистифицировались и прославлялись в фильмах 1980-х годов, таких как "Уолл-стрит" и "Топ Ган". Но эпоха Рейгана в основном репетировала свою привязанность к западному могуществу через ностальгию по хорошей жизни эдвардианской эпохи и эпохи Эйзенхауэра. Фильмы о возрождении раджа в Голливуде 1980-х годов выражали англофильскую составляющую этого чувства. Фильм "Назад в будущее", возвращаясь к социальным формам времен холодной войны, буквализировал отечественную тенденцию. Ностальгия по сверхдержавам и сейчас вливается в те же фантастические сосуды, огибая прекрасные времена Эдварда и Эйзенхауэра. Вспомните "Аббатство Даунтон" и "Безумцы" - два популярных телешоу, которые получили широкое распространение в неопределенные годы после краха 2008 года. Элитная аудитория с удовольствием смотрела истории о последних уверенных эпохах западного могущества. Британские аристократы и американские технократы. В "Даунтоне" поднимался вопрос о том, можно ли сохранить богатство рантье в условиях упадка (ответ: да, на одно последнее поколение, с помощью импортированного капитала от американской жены). Mad Men драматизировал хрупкое создание богатства в индустриальной американской экономике, быстро смещающейся в сторону медиа-развлекательно-военно-сервисного-финансового секторов (Гудлад). Временами тревожные, но в конечном итоге обнадеживающие, эти сериалы возвращают времена славы англоязычной элиты. Они предлагают консерваторам соблазн гламурного прошлого, которое, тем не менее, скомпрометировано приниженными взглядами элиты на расу, класс и пол. Подобные фантазии льстят прогрессистам, в то же время закрепляя обратный дрейф исторических желаний. Безусловно, сериал Mad Men, завершившийся в 2015 году, проливает свет на первобытные удовольствия 1950-х годов, связанные с Дональдом Трампом - разрушителем табу, гольфом, белой уверенностью и жестоким сеньориальным чувством гетеросексуальной привилегии. Любая популярная культура может каннибализировать и смешивать прошлое, но в Великобритании и США вершинные этапы национального превосходства особенно цепко держатся за полупогребенные политические желания, которые продолжают жить в их последствиях.