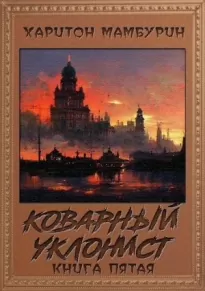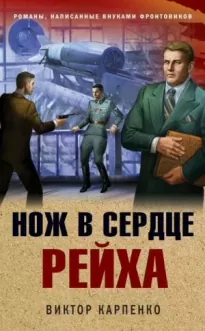Государство и революции
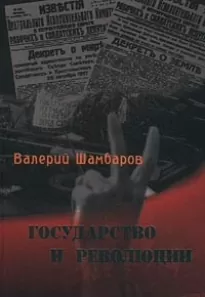
- Автор: Валерий Шамбаров
- Жанр: История: прочее
Читать книгу "Государство и революции"
34. Непосильные перегрузки
Не только на историю СССР, но и на всю мировую историю второй половины XX в. наложило свой мощный отпечаток "противостояние двух систем". Написано об этом предостаточно, а по мере "раскрытия тайн" появляются все новые сенсации. Поэтому отдельно данного вопроса можно было бы и не касаться. Но традиционно сложившиеся подходы к нему все же требуют некоторых уточнений.
Ведь если разобраться, то речь шла вовсе не о борьбе идеологических систем. Как раз до идеологии и внутренней политики коммунизма Западу никогда не было особого дела — точно так же, как до идеологии нацизма, пока его агрессия не обрушилась на страны демократического альянса. Западные государства вполне мирились с существованием коммунизма в 20-х, когда СССР держался в относительной самоизоляции, а на международной арене и рынках выступал на вторых ролях, распродавая по дешевке свое сырье и ценности своих музеев. Ничего они не имели против коммунистического режима и в 1941-45 гг., когда он требовался в качестве союзника — и даже щедро прикармливали его, отдавая в распоряжение целые страны и народы. В 1944 г. американцы начали было наводить мосты и с Мао Цзэдуном, поскольку тоже искали союзников против японцев, а Чан Кайши казался им недостаточно «демократичным», и на него крепко обиделись за книгу "Судьба Китая", где он с национально-патриотических позиций резко осудил прежнюю хищническую политику Запада в своей стране. Впрочем, и позже, в 60-х, США демонстративно пошли на сближение с коммунистическим Китаем, едва лишь наметилась его вражда к СССР. Можно тут вспомнить и то, что «цивилизованные» западные банки отнюдь не отказывались открывать тайные счета для "золота КПСС" (как, кстати, и для зубных коронок "золота Третьего Рейха"). И при этом ни о какой "отмывке денег" как-то и близко речь не заходила. Так причем тут, спрашивается, идеологические принципы?
Истинная суть противостояния заключалась в другом. После Второй мировой начался тот самый процесс, о котором Гитлер предупреждал Сталина в 40-м, а Рузвельт — в Тегеране. Распад прежних колониальных империй. Англия, Франция, Голландия, Бельгия, хотя и вышли из войны победительницами, но оказались существенно ослаблены — и в материальном плане, и в плане морального авторитета на международной арене. Зато на главные роли вышли две других, «свежих» державы. США, сумевшие обогатиться и усилиться в ходе войны, в значительной мере подмяв под себя своих западноевропейских союзников. И СССР. И между ними развернулась борьба за геополитический передел мира. Которая и продолжалась вплоть до перестройки. И на самом-то деле эта борьба со стороны Запада понималась и рассматривалась не в качестве «антикоммунистической», а в качестве «антироссийской». Речь шла о том же "усилении России" и "русской угрозе", что и во времена Крымской войны. Пресловутый план «Дропшот», принятый в 1950 г., на своем третьем этапе, т. е. уже после атомной бомбардировки, на этапе вторжения, предусматривал: "В данной кампании упор делается на физическое истребление противника". Разумеется, физическое уничтожение конкретных «русских», а не каких-то там "коммунистов".
К счастью, до "горячей войны" дело не дошло, но и в пропагандистских кампаниях были выкопаны из сундуков и взяты на вооружение все те же лозунги прошлого и начала нынешнего веков. Поэтому коммунистическая политика от прежней России не отделялась, а наоборот, отождествлялась. Всеми силами и способами выстраивались доказательства, что коммунизм — это фактически нормальное, привычное состояние недоразвитых русских варваров. А политика коммунистических вождей — прямое продолжение "имперской политики" русского самодержавия. Да ведь и впрямь так-то удобнее получалось. Скажем, если события в Венгрии и Чехословакии преподнести как торжество коммунистической реакции, то можно тут и вспомнить, что незадолго до того демократический Запад сам подарил эти страны коммунистам. А вот поднять шум по поводу "русской агрессии" — совсем другое дело. В ходе этой борьбы реанимировались исторические фальшивки, вроде "завещания Петра I". А националистические движения, поддерживаемые американцами, всегда говорили только о "русской оккупации". Как будто сами латыши или украинцы советскую власть не устанавливали, и как будто грузины или эстонцы сидели не в тех же лагерях, что и русские!
Что же касается лозунгов «социализма» с одной стороны, и «демократии» с "правами человека" с другой — то они, в конечном счете, оказывались лишь знаменами, под которыми велась борьба за сферы влияния. Сталин это уже понимал. Хрущев, судя по всему, нет — и в эйфории краха колониальной системы воспринимал свои лозунги буквально. Брежнев — кто его знает? Он тащил бремя этой борьбы уже по инерции. И продолжать становилось тяжко, и выключиться было нельзя, чтобы не потерпеть поражение, чтобы не начала тут же расползаться по швам вся созданная система международного влияния. А бремя было и в самом деле для страны разорительным. Ведь в итоге, возможности такого противоборства определялись финансовыми и экономическими потенциалами сторон. А они у США, да еще вместе с западноевропейскими союзниками, были куда больше, чем у СССР.
Правда, с идеологической точки зрения коммунистические лозунги оказывались более сильным оружием, чем демократические. Но одновременно они и связывали советскую сторону по рукам и ногам, лишали ее гибкости и делали для нее противоборство куда более убыточным. К примеру, в 60-х Индия на 15 % удовлетворяла свои потребности по развитию экономики из бюджета СССР, а Египет — аж на 50 %. А к ним добавлялись все новые и новые «друзья». Едва какой-то режим проявлял себя «прогрессивным» и "антиимпериалистическим", его тут же начинали щедро кормить, сами навязывались с проектами строительства и подъема национальной экономики. И даже если он не оправдывал первоначальных надежд, все равно приходилось прикармливать — а то как бы не переметнулся в противоположный лагерь.
Позиция США в данном отношении оказывалась более выгодной. Они тоже прикармливали дружественные режимы — поощряли займами МВФ, помогали вооружением, техникой, специалистами. Но не будучи связаны идеологическими условностями, заодно и привязывали к себе долгами таких партнеров. В случае неугодной политики могли прекратить финансирование, потребовать возврата кредитов. За ними оставалась и возможность вернуть долги, хотя бы частично — прибрав под контроль местную промышленность или природные ресурсы. Но разве мог таким образом поступать Советский Союз, преподнося свои вложения под идеей "братской помощи"? Или, например, в партийных архивах сохранилось множество расписок Суслову от Пальмиро Тольятти, Долорес Ибаррури и т. д. на получение сотен тысяч и миллионов долларов. Уж конечно, в социалистическом лагере у американцев тоже имелись платные агенты. Но не думаю, чтобы им отваливали такие гигантские суммы. И к тому же, если подобный агент "не ловил мышей", его в любой момент могли рассчитать, как нерадивую прислугу. А попробуй-ка рассчитай какую-нибудь Долорес Ибаррури!
Но между прочим, хотелось бы предостеречь от односторонних взглядов на мировое противостояние, которые под влиянием средств массовой информации стали складываться в перестроечную и «демократическую» эпоху — будто только Советский Союз вскармливал по всему свету диктаторские режимы и очаги терроризма. В этом смысле стороны действовали на равных. При таких правилах игры настоящих-то, идейных коммунистов, вроде Фиделя Кастро, как и идейных антикоммунистов, вроде Пиночета, в обоих лагерях оказывалось мало — а больше выигрывали разные проходимцы и авантюристы. Если Москва спешила приветить любого партнера, абы тот примерил "антиимпериалистический" имидж, так и США, несмотря на их хваленые "права человека", поддерживали и кровавых диктаторов, и прогнившие коррумпированные правительства мафиозного толка — абы только были антикоммунистическими. Или даже коммунистическими, шут с ними, но антисоветскими. Что же касается террористических рассадников, то кто, как не американцы и их азиатские союзники полддержали и выпестовали нынешних афганских талибов, когда это казалось выгодным в борьбе против СССР?
Ну а на стыках, так сказать, "на нейтральной полосе" глобального противостояния СССР-США, к которому позже добавилась и третья сила — Китай, создались условия для появления вообще жутких монстров. Так же, как Гитлер сумел возвыситься и утвердить свою власть, лавируя и играя на противоречиях между Советским Союзом и Западом, таким же образом сумел укрепиться и расцвести, например, режим Иди Амина в Уганде. Который истребил полмиллиона подданных, с аппетитом кушал человечинку, практиковал самые изощренные пытки и казни, умерщвлял надоевших жен из необозримого гарема. Но при этом и с СССР отношения поддерживал, получая военную технику, и Запад от контактов с ним не уклонялся. Людоедскую руку не брезговали пожимать папа римский, генеральный секретарь ООН Курт Вальдхайм, другие политические деятели — он же был и председателем Организации Африканского Единства! Никаких эмбарго ему не объявляли, покупая кофе и бананы, поддерживали дипломатические отношения. И та, и другая сторона знали о художествах и "маленьких слабостях" диктатора. Но обе предпочитали смотреть на них сквозь пальцы. А то ведь обидишь, прижмешь слишком сильно — как бы он к твоим противникам не перекинулся. По аналогичным причинам смогли реализоваться и другие подобные режимы — Бокассы в Центральной Африке, Масиаса в Экваториальной Гвинее, Пол Пота в Камбодже.
Ну а что касается Советского Союза, то он в беспрецедентном геополитическом состязании по финансированию «друзей» и "братской помощи" просто надорвался. И проиграл. Проиграл он и на другом «фронте» мирового противостояния — в гонке вооружений.
Тут я, конечно, могу услышать серьезные возражения. Мол, как же так? Вон какой мощный военно-промышленный комплекс существовал, разваленный нынче конверсиями и приватизациями. И паритет, вроде, поддерживали. И современные образцы вооружения производили — вон самолеты даже сейчас, при всех свалившихся проблемах, создают лучше зарубежных аналогов… В основном, такие представления идут от самих работников пострадавшего ВПК (который, не могу не согласиться, действительно был разрушен глупо и бездарно). И охотно распространяются некомпетентными тележурналистами, слышавшими звон, да не знающими, где он. Поэтому здесь, пожалуй, нужны некоторые пояснения.
ВПК и впрямь был могучем, развитым, с мощной производственной и исследовательской базой, прекрасными специалистами. Но все больше отставал от современных условий и требований. Не только по техническому уровню, но и по своей структуре. Ну, предположим, у нас конструировали лучшие танки. И делали много танков, очень много. Потому что в верхах сидели ветераны Великой Отечественной, и в военной теории продолжала господствовать стратегия Великой Отечественной — прорыв обороны противника массированными танковыми ударами, и все, операция выиграна… Но еще в 45-м немцы внедрили и применили такое оружие, как фаустпатрон, против танков весьма эффективное и дешевое. А в последующие годы на той же основе разрабатывались и совершенствовались другие противотанковые средства — гранатометы, базуки, безоткатные орудия, авиационные средства поражения. И уже китайско-вьетнамская война отчетливо показала — танк перестал быть универсальным средством прорыва и ведения боевых действий, и роль его по сравнению с временами Второй мировой существенно снизилась. То же подтвердили последующие локальные конфликты и войны — арабо-израильские, Афганистан, Кувейт, Югославия, наконец — первая Чеченская кампания. Это один пример, а можно было бы привести и другие.