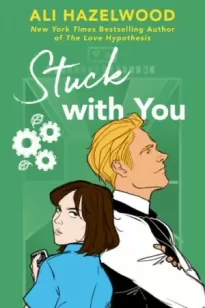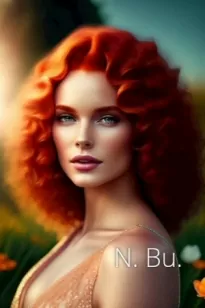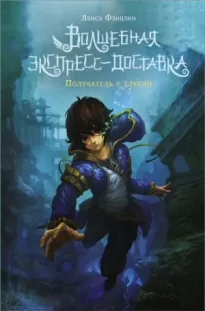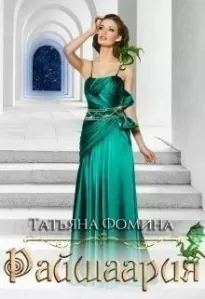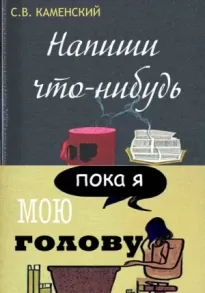Любовница Витгенштейна
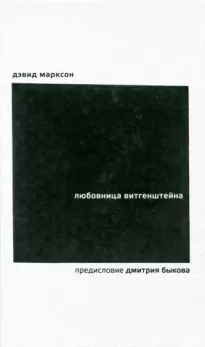
- Автор: Дэвид Марксон
- Жанр: Классическая проза
- Дата выхода: 2017
Читать книгу "Любовница Витгенштейна"
«Мне было очень жаль слышать о вашем банкротстве, Рембрандт».
«Мне было очень жаль слышать о вашем отлучении, Спиноза».
Основной пафос здесь в том, что, опираясь на каноничную атомистическую метафизику и преобразуя ее в искусство, Марксон достиг чего-то вроде каноничной антимелодрамы. Он сделал факты грустными. Само существование Кейт — атомарный факт, ее одиночество — метафизическая крайность. Ее мир «пуст», в нем ничего, кроме данных, покрывающих его, словно дырами, сетчатым узором; он одновременно сформирован и ограничен теми эпистемологическими нитями, которые лишь она одна может сплести. Что Кейт и делает — постоянно, будучи не в силах остановиться, сознательно подражая древнегреческой Пенелопе, которая не выходит у нее из головы. Но Кейт, в отличие от законной любовницы Одиссея, не способна ни связать подобающий узор, ни распутать то, что выдумало ее сознание. С этой точки зрения она предстает уже не Пенелопой, а одновременно Клитемнестрой и Агамемноном; Клитемнестрой, которую Кейт описывает убивающей Агамемнона, «безутешной»; Агамемноном — «у своей купальни, опутанным покрывалом и заколотым сквозь него». А поскольку никакие из присутствующих вещей не связаны ни друг с другом, ни с Кейт, мемориальный проект Кейт в «ЛВ» осмыслен и неизбежен даже несмотря на то, что он закрепляет тот смутный солипсизм, который стал ее бременем. При помощи своего мемориального проекта Кейт превращает «внешнюю» историю в свою собственную. То есть переписывает ее как личную. Поедает ее, как сумасшедший Ван Гог «пытался съесть свои краски». Не случайно роман Марксона открывается наречием зарождения: «Вначале...» То, что «непочтительные размышления» рассказчицы простираются от классических поэм до голландской живописи, барочных квартетов, французского реализма XIX века и бейсбола на искусственной траве, — это не украшательство и не претенциозность автора. Это не случайность (но аллюзия), что Кейт увлеченно бросает обрывки трагической истории в огонь, — она последний историк, она ее трагик и разрушитель, кремирующий страницу за страницей Геродота (первого историка!) по мере чтения. Также нет никакой жеманности или небрежности в том, что ей кажется, будто ее «назначили куратором всего мира», и что она живет в музеях и развешивает свои картины рядом с шедеврами. Работа куратора — вспоминать, выбирать, размещать, то есть устанавливать порядок и одним лишь этим передавать значение, — может служить замечательной метафорой жизни солипсиста или стратегий выживания, подходящих для существования монады в мире преломленных фактов.
Вот только остается важный вопрос: откуда факты, если мир пуст?
На суперобложке «ЛВ», выпущенной издательством Dalkey Archive Press, солипсизм «любовницы» назван «явной метафорой абсолютного одиночества». И Кейт действительно ужасно одинока, хотя ее бесхитростные заявления («В сущности, даже тогда я была одинока») гораздо менее эффектны , чем глубоко нелепые факты, посредством которых она передает смысл изоляции: «Одна из вещей, которые часто восхищают людей в Рубенсе, даже если они не всегда знают об этом, заключается в том, что на его картинах всегда все всех касаются»; «Позже сегодня я, наверное, буду мастурбировать»; «Паскаль... отказывался сидеть на стуле, если по обеим сторонам от него не стояло еще по стулу, чтобы он не упал в пространство». Хотя для меня самым трогательным изображением ситуации Кейт стали печально-забавные описания ее попытки сыграть в теннис без партнера[23] — возможно, наиболее сгущенный символ того, что Кейт проклята пребывать в мире, логически атомизированном в его рефлективном отношении к языку, поскольку передача голых данных связана с (замечательно американской) одержимостью рассказчицы имуществом, удобствами и домами. Следующий фрагмент сокращен:
Не думаю, что я когда-либо упоминала другой дом.
Что я могла упоминать, так это дома вообще, стоящие вдоль берега, но такое обобщение не включало бы этот дом, ведь он [в отличие от дома Кейт] совсем не рядом с водой.
Все, что от него можно увидеть через то [мое] заднее окно наверху, так это угол крыши...
Узнав об этом, я сразу же поняла, что где-то должна также быть дорога, ведущая к нему, разумеется.
Однако мне никак не удавалось найти эту дорогу, причем очень долго...
Так или иначе, неспособность отыскать дорогу постепенно стала совершенно новым видом беспокойства в моем существовании (с. 112-113).
Разумеется, учитывая критическое присутствие в книге Витгенштейна как объекта ссылки, модели и любовника, заманчиво трактовать одиночество Кейт как интеллектуальную метафору саму по себе, как попросту функцию радикального скептицизма, задаваемого логическим атомизмом «Трактата». Ведь опять же откуда и для чего столь важные «факты», на которые — для Витгенштейна и для Кейт — «мир распадается»[24], но которые он в себе не заключает? Являются ли факты — реально существующие — неотъемлемой принадлежностью Внешнего? Позволяют ли они увидеть себя только через бренность чувств-данных и индуктивное мышление? Или, что гораздо хуже, возможно, они являются противоестественно дедуктивными продуктами той самой головы, которая принимает их за Внешние факты, подлинно онтические? Эта последняя возможность (если она усвоена и действительно принята на веру) представляет собой маршрут с остановками в скептицизме, затем в солипсизме и с конечной станцией в безумии. Именно эта последняя возможность наполняет неврастенией «Размышления» Декарта и таким образом порождает современную философию (а вместе с ней — отчетливо современное «отчуждение» индивидуума от любых совокупностей, будь то природных или общественных). Кейт неоднократно заигрывает с этим картезианским кошмаром, например:
Когда я начала писать об Ахиллесе, я в середине фразы подумала вместо него про кота[25].
Кот, о котором я подумала, сидел у разбитого окна в соседней комнате, которое заклеено липкой лентой, часто шуршащей на ветру.
Иначе говоря, о коте я тоже на самом деле не думала, так как нет никакого кота, кроме как в том смысле, что этот шуршащий звук напоминает мне о нем.
Так же как не было и никаких монет на полу студии Рембрандта, за исключением тех случаев, когда сочетание красок обманывало глаза Рембрандта (с. 81).
Дело в том, что одурачившие Рембрандта нарисованные монеты, а также сам Рембрандт, и Ахиллес тоже, ничем не отличаются здесь от «кота»: у рассказчицы Марксона не осталось ничего, кроме «шуршащих звуков» (то есть памяти, воображения и языка), для построения какого-либо Внешнего. Его поток бурлит в голове самой Кейт; то, что оно противится упорядочению и наполнению, объясняется тем отчаянием, с которым Кейт старается его упорядочить и наполнить: лихорадочный пафос ее поиска гарантирует неудовлетворенность. Заметьте, что к странице 81, когда блеск метафизической педантичности померк, Кейт вновь начинает говорить о нереальном коте как о «реальном». Важный эмоциональный момент заключается в том, что независимо от того, расходится ли с реальностью ее отношение к лингвистическим конструктам как существующим, или же оно является неизбежной реакцией на реальность романа, солипсическая природа этой реальности, по мнению Кейт, остается неизменной. Это двойная связь, вполне в духе Кьеркегора, Шекспира и Витгенштейна.
Тем не менее, пока я читаю и оцениваю «ЛВ», для Кейт в ее примирении с вероятностью того, что лишь ее собственные «ошибки» сохраняют мир, на кону стоит нечто большее, чем проблемы метафизики или даже безумия. Кейт весьма оптимистично относится к возможности сумасшествия — она шутит о том, что была безумна временами, в «незапамятные времена». На самом деле в конечном итоге на кону здесь стоят вопросы этики, вины и ответственности. Одна из проблем, которые предположительно так мучили Витгенштейна в течение двадцати лет, разделивших «Трактат» и «Исследования», заключалась в том, что логически атомистическая метафизика не сообщает решительно ничего об этике, или нравственной ценности, или о том, что значит быть человеком. Что делало вещи благими, правильными или достойными, так это история, к которой был небезразличен Витгенштейн-человек. Он, например, записался добровольцем в австрийскую пехоту в 1918 году, хотя мог бы и должен был быть признан негодным к службе, а еще раздал все свое имущество другим людям (в том числе Рильке). Став самым что ни на есть аскетом, Витгенштейн провел зрелые годы в пустой комнате, где не было даже лампы или комфортного кресла. Однако не случайно «Трактат», являвшийся в значительной мере продуктом той самой Вены, что породила «два из наиболее мощных и симптоматичных движений мировой культуры: психоанализ и атональную музыку — два голоса, говорящих о бесприютности современного человека»[26], в свою очередь, сам породил на свет «Венский кружок» и философскую школу логического позитивизма. При этом, надо отметить, главный принцип позитивизма состоял в том, что смыслом обладают только ясно сформулированные высказывания, научные предложения, имеющие целью передачу данных, поэтому суждения о «ценностях», свойственные этике, эстетике или нормативной морали, оказываются всего лишь смешением научных наблюдений и эмоциональных выражений, так что сказать «Убийство — это неправильно» равнозначно высказыванию «Убийство — фу!». Тот факт, что метафизика «Трактата» не только не учитывала, но и во многом отрицала органическую возможность этики, духовных ценностей, ответственности и тому подобного, привел «Витгенштейна, этого ясно мыслящего и интеллектуально честного человека, к безнадежному конфликту с самим собой»[27]. Дело в том, что Витгенштейн был странным аскетом. Он действительно пренебрегал своим телом и держал в голоде свои чувства, однако не для того, чтобы, как монахи, просто наслаждаться последующим укреплением духа. Похоже, что для него важнее всего было отречение от своей сущности через отречение (в работах на тему философской истины) от наиболее важных для него вещей. Он так ничего и не написал о тонких противоречиях между атомизмом и сопутствующим солипсизмом, с одной стороны, и неоспоримыми человеческими ценностями и качествами, с другой. Но, заметьте, именно это и делает Марксон в «ЛВ»; и, таким образом, там, где Витгенштейн молчит, говорит роман Марксона, блистательно сплетая одержимость Кейт с ее ответственностью (за пустоту мира), вычерчивая мандалу из ментальных головоломок и духовной нищеты.
Из многочисленных зеркальных позиций, которые предлагает «ЛВ», Кейт в первую очередь идентифицирует себя с таким историческим персонажем, как Елена из Трои/Гиссарлыка — «этот лик, что тысячи судов гнал в дальний путь»[28] и тело, лежащее под впечатляющей горой павших в Троянской войне[29]. Средством этой идентификации с Еленой является отчетливо женское чувство «ответственности»: как Елене из «Илиады», Кейт не дает покоя пассивное чувство, что «во всем виновата она». И неоднократные попытки Кейт защитить Елену от обвинений в подстрекательстве к войне, унесшей жизни ионийских мужей, чрезвычайно настойчивы и пронзительны, что свидетельствует о яростном протесте: