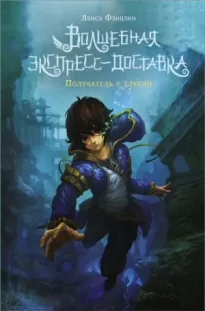Любовница Витгенштейна

- Автор: Дэвид Марксон
- Жанр: Классическая проза
- Дата выхода: 2017
Читать книгу "Любовница Витгенштейна"
Пожалуй, так многотрудно я стараюсь донести как раз то, что несовершенство, идущее от маскулинных предрассудков, лишь подчеркивает, насколько важна и амбициозна «ЛВ» в качестве экспериментального литературного произведения конца 1980-х годов. Мне, человеку с писательскими претензиями, нравится то, как этот роман переворачивает общепринятую формулу успешной художественной литературы, достигая наименьшего успеха как раз там, где он больше всего на нее равняется: исполинская мощь романа ослабляется здесь ровно в той мере, в какой Кейт изображается уникальной в плане обстоятельств и истории. Когда же Кейт наименее конкретизирована, наименее «мотивирована» некоей искусно представленной, но стандартно удобоваримой травмой (эвинской/валентиновой/постфрейдистской), ее героиня и ее судьба особенно э/а/ффектны. Ведь (пусть это покажется очевидным) покуда Кейт не уникальна по своей мотивации, она может быть кем угодно из нас, и преломление мира Кейт способно спроецировать или изобразить десакрализованный и парадоксальный солипсизм американцев в стадной культуре, поклоняющейся лишь Очевидному Я, виновато-пассивных солипсистов и скептиков, пытающихся согреть нежные руки у электронного костра данных в информационный век, когда стандартные образы и принудительный эрос подменяют активное сопереживание или сакральную тайну в качестве целей, ценности, значения и пр. Это знакомое нытье, которое роман Марксона обещает и — почти — преображает, драматизирует, мифологизирует через сухой, голый факт.
Пожалуй, в конце концов, я не одобряю стремление придать одиночеству Кейт конкретную «мотивацию» через приобретенную женскую травму потому, что это попросту излишне, ведь Марксон в этой книге уже добился успеха на всех действительно важных уровнях художественного убеждения. Он воплотил абстрактные наброски доктрины Витгенштейна в конкретном театре человеческого одиночества. При этом его роман гораздо лучше, чем псевдобиография, ухватил то, что сделало Витгенштейна трагической фигурой и жертвой той самой преломленной современности, открытию которой он содействовал. Эрудит Марксон написал поразительно умный роман с прозрачным текстом, завораживающим голосом и финалом, от которого на глазах наворачиваются слезы. Вдобавок он создал (будто бы невольно) мощное критическое размышление о связи одиночества с самим языком.
Хотя, конечно, истинная мотивация писателя всегда остается тайной и предметом в лучшем случае разумных предположений, можно с уверенностью отметить, что постатомистические метафизические перипетии, коими являются «Философские исследования» позднего Витгенштейна, формулируют философские проблемы и допущения столь отличные от раннего «Трактата», что « ФИ » представляются скорее даже не отречением, а этаким оглушительным детоубийством. В отношении Марксона все три смертельных удара, которые «поздний» Витгенштейн наносит по «раннему», связаны с постоянной одержимостью Витгенштейна вопросами языка и реальности. Первое: « ФИ » принимают в качестве образцового языка, которым следует заниматься философам, не идеальную абстракцию математической логики, а обыденный повседневный язык со всей его путаницей и очарованием[37]. Второе: в «ФИ» Витгенштейн тратит массу сил и чернил, выстраивая аргументы против идеи так называемого «индивидуального языка». Этот термин придумал прагматик Уильям Джеймс, которого Витгенштейн упрекал в том, что тот вечно ищет «артишок среди листьев». Однако стремление Витгенштейна показать в «ФИ » невозможность индивидуального языка (что ему в общем и целом удается) свидетельствует также и о сильнейшем беспокойстве по поводу солипсических последствий использования математической логики как образцового языка. Как вы помните, истинностно-функциональная схематика математической логики и отдельные факты схематической картины существуют независимо от говорящих, знающих и почти от всех слушателей. Настойчивое утверждение «ФИ» (в рамках отступления этой книги от вопроса о мире, в котором способен существовать язык, к идее о том, каким должен быть язык, учитывая реальное состояние мира со всей его болтовней, очарованием и нелепицей), что существование и даже сама идея языка зависят от некоего общающегося сообщества[38]... стало, пожалуй, самым сильным философским выпадом против базового сочетания скептицизма/солипсизма со времен Декарта, чью когито-тавтологию Витгенштейн критиковал раньше. Третье: последнее важное отличие заключается в нетривиальном и беспристрастном сосредоточении на почти никсоновской хитрости обыденного языка. Установка «ФИ» такова, что глубокую философскую работу можно осуществить, выяснив, почему лингвистические конструкции используются в том или ином виде, и что множество/большинство ошибок «метафизики» или «эпистемологии» вытекают из уязвимости ученых и людей вообще перед всевозможными хитростями, обманами и изобретениями. У позднего Витгенштейна масса отличных примеров того, как люди то и дело становятся жертвами метафизического «зачаровывания» обыденным языком, теряются в нем. Например, обороты типа «течение времени» порождают нечто вроде онтологического двоения, манят нас возможностью каким-то образом увидеть само время, будто реку, не просто «текущую», но делающую это за пределами нас, вне тех процессов и перемен, которым в действительности время всего лишь служит мерилом[39]. Или обыденные предикаты «игра» и «правила», применяемые одновременно, скажем, к «камешкам», кункену, софтболу и Олимпиаде, морочат нам голову обманчивым платоническим универсализмом, в котором якобы есть некое трансцендентно существующее свойство, присущее каждому члену этого ряда «игр» или «правил», благодаря которому каждый такой член является «игрой» или «правилом», тогда как, по Витгенштейну, есть лишь зыбкая паутина «семейных сходств»[40], прекрасно оправдывающая соединение будто бы однозначных предикатов не более и не менее чем человеческим поведением, а вовсе не каким-то трансцендентальным отображением реальности. К концу жизни Витгенштейн считал осмысленную деятельность человеческого мозга (то есть философию) не чем иным, как «борьбой против зачаровывания нашего интеллекта средствами нашего языка» («ФИ», I, 109)[41]. В «ФИ » утверждается, что люди должны жить или, во всяком случае, живут в своеобразной лингвистической мечте, опьяненные и опутанные обыденным языком и той обманчивой «метафизикой», которую налагает на людей (или которой им стоит) использование языка и коммуникация.
Вышеприведенное резюме вышло довольно сырым.
Но таковым же, внешне, является использование в «Любовнице Витгенштейна» основополагающей новой теории из «Философских исследований». Неприкрытое отношение любовника/любовницы здесь снова содержит схожесть-как-аллюзию [sic]. Такие строки в романе, как «Со второго этажа можно увидеть океан. Здесь внизу дюны, которые загораживают вид» являются сознательным эхом утверждения из «ФИ»: «Философская проблема имеет форму: “Я в тупике”»[42]. Также отягощены аллюзиями (а иногда и просто тяжелы) раздумья Кейт по поводу онтологического статуса называемых вещей: она продолжает называть (как делали бы мы все) сожженный ею дом домом, но задается вопросом, в какой мере разрушенный дом является «домом», если не иметь в виду языковые привычки, оставшиеся с незапамятных времен. Или, например, рассуждает о том, «где находится картина, если она в моей голове, а не на стене?», и о том, называлась бы книга «Анна Каренина», если бы нигде не осталось ни одного целого (несгоревшего) экземпляра. Или изумляется тому, что «можно проехать через множество городов, не зная их названий».
Немного подобного нарциссического эха оказывается вполне достаточно, и Марксон иногда, на первый взгляд, утомителен со своими аллюзиями. Однако же любовница, как и любовник, приглашают вас/меня вниз: кажущееся сперва скучным раскрывается позже. Особенно интересны в качестве таких приглашений маленькие «приманки» вроде процитированных выше, которые кажутся не столько аллюзиями на гения, сколько тонкими предвестниками собственных рассуждений Марксона относительно и вокруг некоторых основных тем «ФИ». Что поначалу отталкивает своей тяжеловесностью или нудностью, со временем превращается в зыбкую ноту обреченности — Weltschmerz [мировая скорбь] в противовес наивности или надменности — в большинстве рассуждений Кейт о том, как имя «создает» объект или свойство[43]; даже несмотря на приступы зависти, охватывающие ее, когда она сталкивается с возможностью существования вещей без названия или без предикации. То, почему эта борьба так занимает Кейт и увлекает читателя, отчасти объясняется настоящей этической болью, вероятно наполнявшей продолжительное молчание между «Трактатом» и «ФИ», но это также можно отнести на счет оригинального и чрезвычайно умного исследования Марксоном чего-то, что можно было бы назвать «феминизацией скептицизма».
Пожалуй, это не тот термин, которым стоило бы разбрасываться под конец, ведь он требует определения и прочего, а эссе и так уже порядком затянулось.
Но вспомните в связи с этой абстракцией, что говорилось выше о Елене и Еве, Кассандре и «Трактате», а также подробно обсуждавшуюся вторую половину двойной связи, опоясывающей солипсизм: радикальное сомнение не только в существовании предметов, но и в самом субъекте, Я. Текст Кейт, признаваемый внутри самого себя письмом, является отчаянной попыткой воссоздать и таким образом оживить мир при помощи его наречения. Отчаянность попытки обусловливает ее почти патологическую зацикленность на именах — людей, персонажей, изображений, книг, симфоний, сражений, городов и дорог — и объясняет то, что Марксон столь удачно передает при помощи повторений и интонации: Кейт крайне расстроена, когда не может вспомнить — «вызвать в памяти», «воссоздать» — названия настолько хорошо, чтобы они подчинялись. А ее усилия по части онтологии-через-наречение являются трогательной синекдохой практически всей истории интеллектуальных свершений на белом мужском Западе. Она не в меньшей степени, чем Витгенштейн, Кант, Декарт или Геродот, творит мир письмом. Неординарная острота достижения Марксона здесь в том, что современно-женская точка зрения Кейт и то самое отчаяние, что лежит в основе ее попыток миросозидания[44], делают ее проект вдвойне обреченным. Первая обреченность — это то, что спроецировано на поверхности: скептицизм и солипсизм. Уже то, что отсутствие какого-либо «мира» отражено в тексте Кейт, достаточно трагично; но в «ЛВ» сами мемуары Кейт «написаны на песке», они «портятся»[45] и гниют — образы распада доминируют и часто повторяются в ее воспоминаниях и мысленных конструкциях.
Пояснением этой идеи я и закончу. Я вполне уверен, что «Любовница Витгенштейна» — несовершенная книга. Однако проблемы голоса, чрезмерные аллюзии и «объяснительность» можно отодвинуть в сторону ради потрясающего эмоционального, политического/ литературного и теоретического достижения романа — он выявляет следующую истину, вокруг да около которой ходили столь многие книги и эссе до него: (по меньшей мере) для современной женщины (то есть такой, которая видит себя и женщиной, и современной) обе стороны солипсической связи: если я существую, то ничто не существует вне меня, но если что-то существует вне меня, то я не существую[46] — сводятся к одному и тому же — проклятию призрачности среди призраков, курированию пленума статуй, принятию отзвуков за голоса. И, кроме того, здесь обе стороны склоняют субъекта к тому же, к чему склоняет Кейт ее драматичное положение, — к своего рода пародийной маскулинизации, при которой Романтический Поиск Отсутствующего Объекта, желание достижения, по отношению к которому недостижимость является самой сутью этого желания, приходит на смену способности быть-в-мире, но не его центром и не его пустотой, не всеответственным и не бессильным, а частью одной большой Семьи Сходств. Свойственная Кейт резкая потеря интереса к дорогам, которые она нашла, и данным, которыми она «овладела» (!!), кажется столь же корявой, несовершенной, человеческой и реальной, как, скажем, стремление Стендаля поскорее закончить «Пармскую обитель», как только Фабрицио овладевает Клелией... И наконец, тот факт, что Кейт ценит лишь несказанное, непрочитанное (она сжигает страницы после прочтения, бросает семью, как только становится «ответственной» за нее; вероятно, даже поддерживает свое письмо обреченным/сладостным осознанием его тщетности), в очередной раз в точности вторит страшной и трогательной финальной установке «Трактата» ее любовника: «Мои предложения поясняются тем фактом, что тот, кто меня понял, в конце концов уясняет их бессмысленность, если он поднялся с их помощью — на них — выше их (он должен, так сказать, отбросить лестницу, после того как он взберется по ней наверх). Он должен преодолеть эти предложения, лишь тогда он правильно увидит мир»[47]. Этот пассаж, как и почти весь Витгенштейн, лишь косвенно говорит о том, о чем он в действительности говорит. Он шепчет и играет. Он на самом деле о наполненности пустоты, важности молчания в рамках речи. С этой идеей Марксон попал в самое яблочко (с моей мужской точки зрения); монография Кейт пронизана бессловесностью сна, холодной тишиной напряжения, душевным заиканием. Ее лестница и правда никуда не ведет, но правда также и в том, что никто не отбросит ни ту, ни другую книгу.