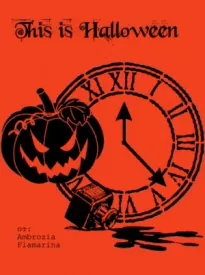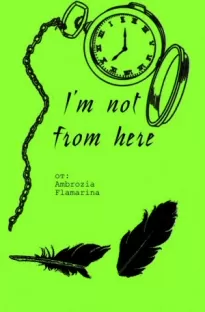Том 10. Господа «ташкентцы». Дневник провинциала
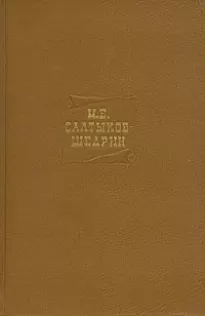
- Автор: Михаил Салтыков-Щедрин
- Жанр: Русская классическая проза
- Дата выхода: 1970
Читать книгу "Том 10. Господа «ташкентцы». Дневник провинциала"
– Да ты знаешь ли, – сказал он, – что на этих днях в Калуге семнадцать гимназистов повесились?*
– Что ты! Христос с тобой!*
– Верно говорю, что повесились. Не хотят по-латыни учиться* – и баста!
– Да врешь ты! Если б что-нибудь подобное случилось, неужто в газетах не напечатали бы!
– Так тебе и позволили печатать – держи карман! А что повесились – это так. Вчера знакомый из Калуги на Невском встретился: все экзамены, говорит, выдержали, а как дошло до латыни – и на экзамен не пошли: прямо взяли и повесились!
– Однако, брат, это черт знает что!
– И я то же говорю. Такое, брат, это дело, такое дело, что я вот и не дурак, а ума не приложу.
Прокоп потупился, и некоторое время, сложив в раздумье руки, обводил одним указательным пальцем около другого.
– Нынче и дети-то словно не на радость, – продолжал он, – сперва латынь, потом солдатчина. Не там, так тут, а уж ремиза не миновать. А у меня Петька смерть как этой латыни боится.
– Ну, принудил бы себя! что за важность!
– И я ему то же говорил, да ничего не поделаешь. Помилуйте, говорит, папенька, это такой проклятый язык, что там что ни слово, то исключение. Совсем, говорит, правил никаких нет!
– Да нельзя ли попросить, чтоб простили его?
– Просил, братец! ничем не проймешь! Одно ладят: нынче, говорят, и свиней пасти, так и то Корнелия Непота читать надо. Ну, как мне после этого немцев-канальев не ругать!
Прокоп опять задумался, и некоторое время в комнате царствовало глубокое молчание, прерываемое лишь вздохами моего друга.
– А то слышал еще, Дракин, Петр Иванович, помешался? – вновь начал Прокоп.
– Господи! да откуда у тебя всё такие новости?
– Вчера из губернии письмо получил. Читал, вишь, постоянно «Московские ведомости», а там всё опасности какие-то предрекают: то нигилизм, то сепаратизм*… Ну, он и порешил. Не стоит, говорит, после этого на свете жить!
– Скажите на милость! А какой здоровый был!
– Умница-то какая – вот ты что скажи! С губернатором ли сцепиться, на земском ли собрании кулеврину* подвести – на все первый человек! Да что Петр Иванович – этому, по крайней мере, было с чего сходить – а вот ты что скажи; с чего Хлобыстовский, Петр Лаврентьевич, задумываться стал?
– Неужто и он?
– Да, и от чего стал задумываться… от «Петербургских ведомостей»! С реформами там нынче всё поздравляют, ну вот он читал-читал, да и вообрази себе, что идет он по длинному-длинному коридору, а там, по обеим сторонам, всё пеленки… то бишь всё реформы развешены! Эхма! чья-то теперь очередь с ума сходить!
Новое молчание, новые вздохи.
– И что, братец, нынче за время такое! Где ни послышишь – везде либо запил, либо с ума сошел, либо повесился, либо застрелился. И ведь никогда мы этой водки проклятой столько не жрали, как теперь!
– От скуки, любезный друг!
– Именно, брат, от скуки. Скажу теперича хоть про себя. Ну, встанешь это утром, начнешь думать, как нынче день провести. Ну, хоть ты меня зарежь, нет у меня делов, да и баста!
– Да и у меня, душа моя, их немного.
– Вот, говорят, от губернаторов все отошло: посмотрели бы на нас – у нас-то что осталось! Право, позавидуешь иногда чиновникам. Был я намеднись в департаменте – грешный человек, все еще поглядываю, не сорвется ли где-нибудь дорожка, – только сидит их там, как мух в стакане. Вот сидит он за столом, папироску покурит, ногами поболтает, потом возьмет перо, обмакнет, и чего-то поваракает; потом опять за папироску возьмется, и опять поваракает – ан времени-то, гляди, сколько ушло!
– А нам с тобой деваться некуда!
– Пристанищев у нас нет никаких – оттого и времени праздного много. А и дело навернется – тоска на него глядеть! Отвыкли. Все тоска! все тоска! а от тоски, известно, одно лекарство: водка. Вот мы и жрем ее, чтобы, значит, время у нас свободнее летело.
– Да, душа моя, видно, остались мы с тобой за штатом!
– Не за штатом, а просто ни при чем. Ну, скажи на милость, кабы у тебя свое дело было, ну, пошел ли бы ты генерала хоронить? Или опять эти Минералы, – ну, поехал ли бы ты за семь верст киселя есть, кабы у тебя свой интерес под руками был?
– Так за чем же дело стало? Возьмем да и не поедем сегодня на Минералы!
– Ну, стало быть, в Шато-де-Флёр* поедем, а уж туда либо сюда – не минешь ехать.
– Да отчего же! Посидим дома, пошлем за обедом в кухмистерскую, напьемся чаю, потолкуем… Может быть, что-нибудь да и найдется!
– Ничего не найдется. О том, что ли, толковать, что все мы под богом ходим, так оно уж и надоело маленько. А об другом – не об чем. Кончится тем, что посидим часок да и уйдем к Палкину, либо в Малоярославский трактир*. Нет уж, брат, от судьбы не уйдешь! Выспимся, да и на острова!
Увы! Я должен был согласиться, что план Прокопа все-таки был самый подходящий. О чем толковать, когда никаких своих дел нет? А если не о чем толковать, то, значит, и дома сидеть незачем. Надо бежать к Палкину, или на Минерашки, или в Шато-де-Флёр, одним словом, куда глаза глядят и где есть возможность забыть, что есть где-то какие-то дела, которых у меня нет. Прибежишь – никак не можешь разделаться с вопросом: зачем прибежал? Убежишь – опять-таки не разделаешься с вопросом: зачем убежал? И всё-то так.
Наконец я заснул.
Чертог сиял…*
В саду, однако ж, было почти темно. Отблеск огней, которыми горело здание минеральных вод, превращал полумрак майской ночи в настоящую мглу. Публика с какою-то безнадежною апатией колотилась взад и вперед, не рискуя пускаться в аллеи более отдаленные и кружась в районе света, выходящего из окон здания. Тут же, на площадке, волочили свои шлейфы современные Клеопатры из Гамбурга*. По бокам площадки, около столиков, ютились обоего пола посетители и истребляли всякого рода влагу. В разных местах, на покрытых эстрадах, мерцали огни, и раздавались звуки музыки, которые, благодаря влажности воздуха, даже в небольшом расстоянии доходили до слуха в виде треска. Несмотря на то что толпа была довольно компактная, говор стоял до такой степени умеренный, что мы, войдя в сад, после шума и стука съезда, были как бы охвачены молчанием. По временам слышалось бряцание палаша и раздавался крик: человек! похожий на крик иволги в глухом лесу. Сырость была несносная, пронизывающая.
Странное дело! я и прежде нередко посещал это заведение, и довольно коротко знаю его публику, но и до сих пор, входя в сад, не могу избавиться от чувства некоторой неловкости. Посмотришь кругом – публика ведет себя не только благонравно, но даже тоскливо, а между тем так и кажется, что вот-вот кто-нибудь закричит «караул», или пролетит мимо развязный кавалер и выдернет из-под тебя стул, или, наконец, просто налетит бряцающий ташкентец и предложит вопрос: «А позвольте, милостивый государь, узнать, на каком основании вы осмеливаетесь обладать столь наводящей уныние физиономией?» А там сейчас протокол, а назавтра заседание у мирового судьи, а там апелляция в съезд мировых судей, жалоба в кассационный департамент, опять суд, опять жалоба, – и пошла писать. Положим, что подобные происшествия случаются редко, тем не менее тревожное чувство, подсказывающее возможность чего-нибудь в этом роде, несомненно существует, и я уверен, существует не у меня одного.
В этот вечер тревожное чувство давало себя знать как-то сильнее обыкновенного. Очевидно, я одичал, одичал в Петербурге, в самом разгаре всякого рода утех. В течение полугода я испытал все разнообразие петербургской жизни: я был в воронинских банях, слушал Шнейдершу, Патти, Бланш Вилэн, ходил в заседания суда, посетил всевозможные трактиры, бывал на публицистических и других раутах, присутствовал при защите педагогических рефератов*, видел в «Птичках певчих» Монахова* и в «Fanny Lear»* Паску, заседал в Публичной библиотеке и осмотрел монументы столицы, побывал во всех клубах, а в Артистическом был даже свидетелем скандала*; словом сказать, только в парламенте не был, но и то не потому, чтобы не желал там быть, а потому, что его нет. И несмотря на все это, я одичал. Может быть, это от вина, а может быть, и от того, что разговоры постоянно слышу какие-то пенкоснимательно-несообразные, – как бы то ни было, но куда бы я ни пришел, везде мне кажется, что все глаза устремлены на меня, и во всех глазах я читаю: а ты зачем сюда пожаловал? И вот, как только мелькнет этот вопрос в моей голове, мне делается совестно. И я начинаю робеть и смущаться, и воображать, что вот этот, например, усатый господин, который, гремя палашом, мчится в мою сторону, мчится не иначе как с злостным намерением выдернуть из-под меня стул.
Напрасно напрягал я взоры в темноту – я никого не мог различить. Даже кокотки были как будто все на одно лицо, и только по большей или меньшей смелости жаргона можно было различить большую или меньшую знаменитость. Были такие, около которых раздавалось непрерывное бряцание, – это, конечно, самые счастливые, имевшие в перспективе ужин у Бореля и радужную бумажку*; но были и такие, которые кружились совсем-совсем одни и, быть может, осуждены были на последние два двугривенных нанять ваньку, чтоб вернуться на Вознесенский проспект или в Подьяческую. Прокоп был счастливее меня; он как-то и в тьму ухитрялся проникнуть, и беспрестанно толкал меня в бок, спрашивая: «Это кто?.. вон, высокий в плаще?» или: «А этот вон, в белом жилете, с закрученными усиками… это директор департамента, кажется? Ну да, он! он и есть!»
Мы с полчаса самым отчаянным образом бременили землю, и в течение всего этого времени я не имел никакой иной мысли, кроме: «А что бы такое съесть или выпить?» Не то чтобы я был голоден, – нет, желудок мой был даже переполнен, – а просто не идет в голову ничего, кроме глупой мысли о еде. Вот долетел до ушей треск контрабаса, и вдруг опять все стихло, хотя и видно, что на эстраде какой-то мужчина не переставая махает палочкой, а другие мужчины то поднимают, то опускают смычки. А мы всё ходим и ходим, как будто чего-то ждем. Наконец, несмотря на то что прошло с приезда не более двадцати минут, начинаем ощущать адскую усталость. И вот в ту самую минуту, когда я уже порешил, что самое подходящее в настоящем случае: выпить коньяку, – раздался звонок, призывающий в залу представлений. Господи! как же обрадовались мы этому звонку! с каким импетом* рванулись в залу театра! и как рванулись вместе с нами все эти бесприютные, чающие движения воды, которые ни к чему в жизни не могли приладиться, кроме бряцания, кокоток и шампанского!
Вдруг, при входе в зал, среди толпы, я встречаю того самого товарища, который, если читатель помнит, водил меня смотреть Шнейдершу. Он был окружен еще двумя-тремя старыми товарищами, которые, по обыкновению, юлили около него.
– А! провинциал! А я ведь думал, что ты давно в своей классической Проплёванной! Пришел смотреть Claudia? Quelle verve! Sapristi![446]
Затем Нагибин (фамилия моего товарища) нагнулся к моему уху и таинственно шепнул:
– А ведь я к вам, в губернию… mais chut![447]
– Как? уже помпадуром*?! Поздравляю!!
– Да, душа моя. Я решился принять. Ce n’est pas le bout du monde, j’en conviens, mais en attendant, c’est assez joli…[448]Я на тебя надеюсь! Ты будешь содействовать мне! C’est convenu![449] Впрочем, отсюда мы отправляемся ужинать к Донону, и, разумеется, ты с нами!