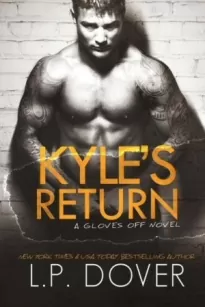Том 4. Одиссея. Проза. Статьи
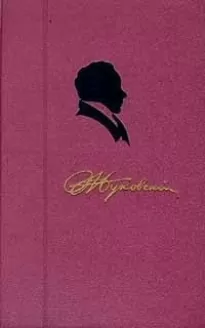
- Автор: Василий Жуковский
- Жанр: Русская классическая проза
- Дата выхода: 1959
Читать книгу "Том 4. Одиссея. Проза. Статьи"
34. С. Л. Пушкину. Февраля 15 <1837, Петербург>
Я не имел духу писать к тебе, мой бедный Сергей Львович. Что я мог тебе сказать, угнетенный нашим общим несчастием, которое упало на нас, как обвал, и всех раздавило? Нашего Пушкина нет! это, к несчастию, верно; но все еще кажется невероятным. Мысль, что его нет, еще не может войти в порядок обыкновенных, ясных ежедневных мыслей. Еще по привычке продолжаешь искать его, еще так естественно ожидать с ним встречи в некоторые условные часы; еще посреди наших разговоров как будто отзывается его голос, как будто раздается его живой, веселый смех, и там, где он бывал ежедневно, ничто не переменилось, нет и признаков бедственной утраты, все в обыкновенном порядке, все на своем месте; а он пропал, и навсегда – непостижимо. В одну минуту погибла сильная, крепкая жизнь, полная гения, светлая надеждами. Не говорю о тебе, бедный дряхлый отец; не говорю об нас, горюющих друзьях его. Россия лишилась своего любимого национального поэта. Он пропал для нее в ту минуту, когда его созревание совершалось; пропал, достигнув до той поворотной черты, на которой душа наша, прощаясь с кипучею, буйною, часто беспорядочною силою молодости, тревожимой гением, предается более спокойной, более образовательной силе здравого мужества, столько же свежей, как и первая, может быть не столь порывистой, но более творческой. У кого из русских с его смертию не оторвалось что-то родное от сердца?
И между всеми русскими особенную потерю сделал в нем сам государь. При начале своего царствования он его себе присвоил; он отворил руки ему в то время, когда он был раздражен несчастием, им самим на себя навлеченным; он следил за ним до последнего его часа; бывали минуты, в которые, как буйный, еще не остепенившийся ребенок, он навлекал на себя неудовольствие своего хранителя, но во всех изъявлениях неудовольствия со стороны государя было что-то нежное, отеческое. После каждого подобного случая связь между ими усиливалась: в одном – чувством испытанного им наслаждения простить, в другом – живым движением благодарности, которая более и более проникала душу Пушкина и наконец слилась в ней с поэзиею. Государь потерял в нем свое создание, своего поэта, который принадлежал бы к славе его царствования, как Державин – славе Екатерины, а Карамзин – славе Александра. И государь до последней минуты Пушкина остался верен своему благотворению. Он отозвался умирающему на последний земной крик его; и как отозвался? Какое русское сердце не затрепетало благодарностию на этот голос царский? В этом голосе выражалось не одно личное, трогательное чувство, но вместе и любовь к народной славе и высокий приговор нравственный, достойный царя, представителя и славы и нравственности народной.
Первые минуты ужасного горя для тебя прошли; теперь ты можешь меня слушать и плакать. Я опишу тебе все, что было в последние минуты твоего сына, что я видел сам, что мне рассказали другие очевидцы.
Опишу просто все, что со мною было. В середу 27-го числа генваря в 10-ть часов вечера приехал я к князю Вяземскому. Вхожу в переднюю. Мне говорят, что князь и княгиня у Пушкиных. Это показалось мне странным. Почему меня не позвали? Сходя с лестницы, я зашел к Валуеву*. Он встретил меня словами: «Получили ли вы записку княгини? К вам давно послали. Поезжайте к Пушкину: он умирает; он смертельно ранен». Оглушенный этим известием, я побежал с лестницы, велел везти себя прямо к Пушкину, но, проезжая мимо Михайловского дворца и зная, что граф Вьельгорский находится у великой княгини* (у которой тогда был концерт), велел его вызвать и сказал ему о случившемся, дабы он мог немедленно по окончании вечера вслед за мною же приехать. Вхожу в переднюю (из которой дверь была прямо в кабинет твоего умирающего сына), нахожу в нем докторов Арендта и Спасского*, князя Вяземского, князя Мещерского*, Валуева. На вопрос мой: «Каков он?» Арендт, который с самого начала не имел никакой надежды, отвечал мне: «Очень плох, он умрет непременно».
Вот что рассказали мне о случившемся.
Дуэль была решена накануне (во вторник 26-го генваря); утром 27-го числа Пушкин, еще не имея секунданта, вышел рано со двора. Встретясь на улице с своим лицейским товарищем полковником Данзасом*, он посадил его с собою в сани и, не рассказывая ничего, повез к д'Аршиаку*, секунданту своего противника. Там, прочитав перед Данзасом собственноручную копию с того письма, которое им было написано к министру Геккерну* и которое произвело вызов от молодого Геккерна, он оставил Данзаса для условий с д'Аршиаком, а сам возвратился к себе и дожидался спокойно развязки. Его спокойствие было удивительное; он занимался своим «Современником» и за час перед тем, как ему ехать стреляться, написал письмо к Ишимовой (сочинительнице «Русской истории для детей», трудившейся для его журнала)*; в этом письме, довольно длинном*, он говорит ей о назначенных им для перевода пиесах и входит в подробности о ее истории, на которую делает критические замечания так просто и внимательно, как будто бы ничего иного у него в эту минуту в уме не было. Это письмо есть памятник удивительной силы духа: нельзя читать его без умиления, какой-то благоговейной грусти: ясный, простосердечный слог его глубоко трогает, когда вспоминаешь при чтении, что писавший это письмо с такою беззаботностию через час уже лежал умирающий от раны. По условию Пушкин должен был встретиться в положенный час со своим секундантом, кажется в кондитерской лавке Вольфа, дабы оттуда ехать на место; он пришел туда в <пробел> часов. Данзас уже его дожидался с санями; поехали; избранное место было в лесу, у Комендантской дачи; выехав из города, увидели впереди другие сани; это был Геккерн* с своим секундантом; остановились почти в одно время и пошли в сторону от дороги; снег был по колена; по выборе места надобно было вытоптать в снегу площадку, чтобы и тот и другой удобно могли и стоять друг против друга и сходиться. Оба секунданта и Геккерн занялись этою работою; Пушкин сел на сугроб и смотрел на роковое приготовление с большим равнодушием. Наконец вытоптана была тропинка в аршин шириною и в двадцать шагов длиною; плащами означили барьеры, одна от другой в десяти шагах; каждый стал в пяти шагах позади своей. Данзас махнул шляпою; пошли, Пушкин почти дошел до своей барьеры; Геккерн за шаг от своей выстрелил; Пушкин упал лицом на плащ, и пистолет его увязнул в снегу так, что все дуло наполнилось снегом. «Je suis blessé»,[76] сказал он падая. Геккерн хотел к нему подойти, но он, очнувшись, сказал: «Ne bougez pas; je me sens encore assez fort pour tirer mon coup».[77] Данзас подал ему другой пистолет. Он оперся на левую руку, лежа прицелился, выстрелил, и Геккерн упал, но его сбила с ног только сильная контузия; пуля пробила мясистые части правой руки, коею он закрыл себе грудь, и, будучи тем ослаблена, попала в пуговицу, которою панталоны держались на подтяжке против ляжки; эта пуговица спасла Геккерна. Пушкин, увидя его падающего, бросил вверх пистолет и закричал: «Bravo!» Между тем кровь лила из раны; было надобно поднять раненого; но на руках донести его до саней было невозможно; подвезли к нему сани, для чего надобно было разломать забор; и в санях довезли его до дороги, где дожидала его Геккернова карета, в которую он и сел с Данзасом. Лекаря на месте сражения не было. Дорогою он, по-видимому, не страдал, по крайней мере этого не было заметно; он был, напротив, даже весел, разговаривал с Данзасом и рассказывал ему анекдоты.
Домой возвратились в шесть часов. Камердинер взял его на руки и понес на лестницу. «Грустно тебе нести меня?» – опросил у него Пушкин. Бедная жена встретила его в передней и упала без чувств. Его внесли в кабинет; он сам велел подать себе чистое белье; разделся и лег на диван, находившийся в кабинете. Жена, пришедши в память, хотела войти; но он громким голосом закричал: «N’entrez pas»,[78] ибо опасался показать ей рану, чувствуя сам, что она была опасною. Жена вошла уже тогда, когда он был совсем раздет. Послали за докторами. Арендта не нашли; приехал Шольц и Задлер. В это время с Пушкиным были Данзас и Плетнев. Пушкин велел всем выйти. «Плохо со мною», – сказал он, подавая руку Шольцу. Рану осмотрели, и Задлер уехал за нужными инструментами. Оставшись с Шольцем, Пушкин спросил: «Что вы думаете о моей ране; я чувствовал при выстреле сильный удар в бок, и горячо стрельнуло в поясницу. Дорогою шло много крови. Скажите откровенно, как вы находите рану?» – «Не могу вам скрыть, она опасная». – «Скажите мне, смертельная?» – «Считаю долгом не скрывать и того. Но услышим мнение Арендта и Соломона, за коими послано». – «Je Vous remercie, vous avez agi en honnête homme envers moi»,[79] – сказал Пушкин; замолчал; потер рукою лоб, потом прибавил: «Il faut que j’arrange ma maison.[80] Мне кажется, что идет много крови». Шольц осмотрел рану; нашлось, что крови шло немного; он наложил новый компресс. «Не желаете ли видеть кого из ваших ближних приятелей?» – спросил Шольц. «Прощайте, друзья!» – сказал Пушкин, и в это время глаза его обратились на его библиотеку. С кем он прощался в эту минуту, с живыми ли друзьями или с мертвыми, не знаю. Он немного погодя спросил: «Разве вы думаете, что я часу не проживу?» – «О нет! но я полагал, что вам будет приятно увидеть кого-нибудь из ваших. Г<осподин> Плетнев здесь». – «Да; но я желал бы Жуковского. Дайте мне воды; тошнит». Шольц тронул пульс, нашел руку довольно холодною; пульс слабый, скорый, как при внутреннем кровотечении; он вышел за питьем, и послали за мною. Меня в это время не было дома; и не знаю, как это случилось, но ко мне не приходил никто. Между тем приехали Задлер и Соломон. Шольц оставил больного, который добродушно пожал ему руку, но не сказал ни слова.
Скоро потом явился Арендт. Он с первого взгляда увидел, что не было никакой надежды. Первою заботою было остановить внутреннее кровотечение; начали прикладывать холодные со льдом примочки на живот и давать прохладительное питье; они произвели желанное действие, и кровотечение остановилось. Все это было поручено Спасскому, домовому доктору Пушкина, который явился за Арендтом и всю ночь остался при постеле страдальца. «Плохо мне», – сказал Пушкин, увидя Спасского и подавая ему руку. Спасский старался его успокоить; но Пушкин махнул рукою отрицательно. С этой минуты он как будто перестал заботиться о себе и все его мысли обратились на жену. «Не давайте излишних надежд жене, – говорил он Спасскому, – не скрывайте от нее, в чем дело; она не притворщица, вы ее хорошо знаете. Впрочем, делайте со мною что хотите, я на все согласен и на все готов».
Когда Арендт перед своим отъездом подошел к нему, он ему сказал: «Попросите государя, чтобы он меня простил; попросите за Данзаса, он мне брат, он невинен, я схватил его на улице». Арендт уехал. В это время уже собрались мы все, князь Вяземский, княгиня, граф Вьельгорский и я. Княгиня была с женою, которой состояние было невыразимо; как привидение, иногда прокрадывалась она в ту горницу, где лежал ее умирающий муж; он не мог ее видеть (он лежал на диване, лицом от окон к двери); но он боялся, чтобы она к нему подходила, ибо не хотел, чтобы она могла приметить его страдания, кои с удивительным мужеством пересиливал, и всякий раз, когда она входила или только останавливалась у дверей, он чувствовал ее присутствие. «Жена здесь, – говорил он. – Отведите ее». «Что делает жена? – спросил он однажды у Спасского. – Она, бедная, безвинно терпит! в свете ее заедят». Вообще с начала до конца своих страданий (кроме двух или трех часов первой ночи, в которые они превзошли всякую меру человеческого терпения) он был удивительно тверд. «Я был в тридцати сражениях, – говорил доктор Арендт, – я видел много умирающих, но мало видел подобного».