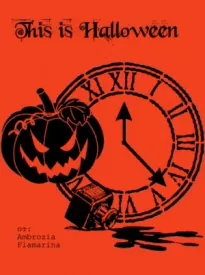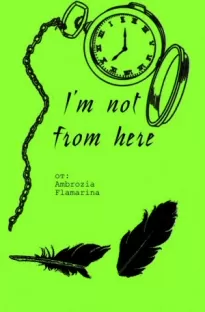Том 10. Господа «ташкентцы». Дневник провинциала
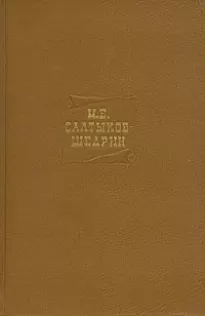
- Автор: Михаил Салтыков-Щедрин
- Жанр: Русская классическая проза
- Дата выхода: 1970
Читать книгу "Том 10. Господа «ташкентцы». Дневник провинциала"
XI
Я проснулся в больнице для умалишенных. Как попал я в это жилище скорби – я не помню. Быть может, находясь в припадках лунатизма, я буйствовал, бросался из окна, угрожал жизни другим. Но может быть также, что я обязан моим перемещением квартальному поручику Хватову, который, узнав о привлечении меня к опаснейшему политическому процессу, вспомнил о взаимном нашем хлебосольстве и воспользовался моим забытьем; чтоб выдать меня за сумасшедшего и тем спасти от справедливой кары, ожидавшей меня за то, что я подвозил мнимого Левассёра на извозчике… Как бы то ни было, но печальная истина не сразу выяснилась в моих глазах. Некоторое время я все еще жил впечатлениями сна и даже восстановлял себе наяву некоторые эпизоды, которые или совсем улетучились, или очень неясно промелькнули в моем сновидении.
Так, например, в сновидении я совсем не встречался с личностью официального Прокопова адвоката (Прокоп имел двоих адвокатов: одного секретного, «православного жида», который, олицетворяя собой всегда омерзительный порок, должен был вносить смуту в сердца свидетелей и присяжных заседателей, и другого – открытого, который, олицетворяя собою добродетель, должен был убедить, что последняя даже в том случае привлекательна, когда устраняет капиталы из первоначального их помещения) – теперь же эта личность представилась мне с такою ясностью, что я даже изумился, как мог до сих пор просмотреть ее. Припомнились мне также некоторые подробности из деятельности «православного жида»: как он за сутки до судоговорения залез в секретное место, предназначенное исключительно для присяжных заседателей (кажется, это было в Ахалцихе Кутаисском*), как сначала пришел туда один заседатель и через минуту вышел вон, изумленный, утешенный и убежденный, забыв даже, зачем отлучался из комнаты заседателей; как он вошел обратно в эту комнату и мигнул; как, вслед за тем, все прочие заседатели по очереди направлялись, под конвоем, в секретную, и все выходили оттуда изумленные, утешенные и убежденные… Такова сила убеждения, которую умеет усвоивать себе даже омерзительный порок, в тех случаях, когда идет речь о добродетели, занимающейся устранением чужих капиталов из первоначальных помещений!
Но все это уже прошло. Исчезли Ахалкалаки, Алешки, Бендеры, Бельцы, Валуйки! В Буинске судят уже не Прокопа, а мирового судью Травина (надоел он, должно быть, местным Прокопам!) за то, что не по чину весело время проводит; в Белозерске по-прежнему позорят заблудших снетков! Из всех лиц, с которыми мне пришлось иметь дело во время годичного пребывания в Петербурге, придется встретиться, быть может, только с тремя (разве еще кого-нибудь неожиданно притащат в больницу!), а именно: с обоими адвокатами Прокопа да еще с Менандром. Увы! и они, подобно мне, находятся в больнице умалишенных, и я в эту самую минуту вижу из окна, как добродетельный адвокат прогуливается под руку с Менандром в саду больницы, а «православный жид» притаился где-то под кустом в той самой позе, в которой он, в Ахалцихе, изумил присяжных. Все они помешались. «Православный жид» помешался на том, чтобы устроить в Петербурге такую же «comptoir de confiance»[524], образчик которой он недавно видел в водевиле «Tricoche et Cacolet»*. Добродетельный адвокат однажды как-то слышал анекдот о девице, которая и невинность сохранила, и капитал приобрела, – и помешался на том, что он столько лет прожил на свете и не знал этого средства. Что же касается до Менандра, то он, как и следовало ожидать, помешался на тушканчиках.
– Преследуют, братец, меня эти мерзавцы! – открылся он мне при первом же свидании, – забрались в мою газету, и ничем их оттуда не вытравишь! Зато, брат, как я узнал теперь этих тушканчиков! Клянусь, не хуже самого Перерепенки! Да что пользы в этом! Одного ухватишь – смотришь, ан другой уж роется где-то и что-то грызет!
Обо всем этом, однако же, речь впереди*; теперь же я чувствую себя обязанным подвести итоги тому, что́ видел в Петербурге в течение годичного пребывания в этом городе.
Прежде всего я должен оговориться. Я заносил в свой «Дневник» далеко не все, что видел и что происходило со мною и вокруг меня. Во-первых, меня стесняли самые пределы «Дневника», а во-вторых, стесняло еще и то обстоятельство, что не только не обо всем можно, но не обо всем и удобно говорить, особенно в той чисто беллетристической форме, которую, по издавна вкоренившейся привычке, я усвоил своему труду.
Говорю прямо: я совершенно оставил без упоминовения некоторые категории людей и явлений, воспроизведение которых было бы далеко не лишним для характеристики нашего времени. Не одними Прокопами, Менандрами, Толстолобовыми и «православными жидами» наполнен мир; есть в этом мире и иные люди, с иными физиономиями и иному делу посвящающие свою жизнь. Составляя почти незаметное меньшинство, эти люди тем не менее слишком часто служат темой для общественного говора, чтобы можно было их игнорировать. Почему же я ни одним словом не упомянул об них?
Оправдание мое, однако же, проще, нежели можно ожидать с первого взгляда. Прежде всего, не эти люди и не эти явления сообщают общий тон жизни; а потом – это не люди, а жертвы*, правдивая оценка которых, вследствие известных условий, не принадлежит настоящему.
Существуют два вида подобных людей и явлений: один, к которому можно относиться апологетически, но неудобно отнестись критически; другой – к которому можно сколько угодно относиться критически, но неудобно отнестись апологетически*. Каким образом и откуда произошло это сидение между двух стульев, делающее немыслимою спокойную оценку явлений и фактов, совершающихся у всех да глазах, – я не знаю (то есть, быть может, и знаю, но скромность так уже въелась в мою природу, что я прямо пишу: не знаю), но что оно существует – этого даже клейменый лжец не отвергнет. Зачем же я буду садиться между двух стульев? зачем я буду стремиться занять позицию, на которой – я знаю это наверно – рано или поздно, тем или другим способом, но провалюсь?*
Чтоб сделать это более ясным для читателя, я приведу здесь пример, который, впрочем, в строгом смысле, очень мало относится к настоящему делу. (Я знаю, что «относится», и притом самым близким образом, и все-таки пишу: не относится. О, читатель! если б ты знал, как совестно иногда литератору сознавать, что он литератор!)
Возьмем так называемых «новых людей»*. Я, разумеется, знаю достоверно – как знает, впрочем, это и вся публика, – что существуют люди, которые называют себя «новыми людьми», но не менее достоверно знаю и то, что это не манекены с наклеенными этикетами, а живые люди, которые, в этом качестве, имеют свои недостатки и свои достоинства, свои пороки и свои добродетели. Как должен был бы я поступать, если б повел речь об этих людях?
Начну с пороков. Я мог бы, конечно, не хуже любого из современных беллетристов, лавреатов и нелавреатов*, указать на темные (я должен был бы сказать «слабые», но смело пишу: темные) стороны, которые встречаются в этой немноголюдной и, во всяком случае, не пользующейся материальною силой корпорации. Эти темные стороны настолько уже изучены и распубликованы, что мне ничего не стоило бы, с помощью одних готовых материалов, возбуждать в читателе, по поводу «новых людей», то смех, то ненависть, то спасительный страх. Но меня останавливает одно обстоятельство: не будет ли это слишком легкомысленно с моей стороны? не докажу ли я своим бесконечным веселонравием или своей бесконечной пугливостью, что я не совсем умен, и ничего больше? Ведь ежели я стану смеяться или пугать просто: как, дескать, оно смешно или омерзительно! – это, быть может, покажется несколько глупым; а ежели я захочу смеяться или пугать вплотную, то не найдусь ли я вынужденным прежде всего подвергнуть осмеянию самые причины, породившие те факты, которые возбуждают во мне смех или ужас? Вот эти-то причины и приводят меня в смущение.
Кто знает, быть может, известные порочные явления сделались таковыми лишь благодаря порочной обстановке, в которой они находятся? Быть может, если дать человеку возможность выговориться вполне, то ультиматум, который вертится у него на языке, окажется далеко не столь ужасным, как это представляется с первого взгляда? Как знать, что было бы, если бы, и что могло бы случиться, кабы?.. И хотя я отнюдь не утверждаю, что основания для подобных предположений существуют в действительности – я даже думаю, что на деле никаких неблагоприятных обстановок и в помине не имеется, – но ведь возможны же подобные предположения, а если они возможны, то, стало быть, и самый иск, направленный против порочных явлений, становится до крайности рискованным и шатким. Для чего буду я ставить себя в ложное положение? Для чего, отыскивая меду, я добровольно буду направлять свои стопы к такому месту, которое, быть может, скрывает мед, а быть может – деготь? Допустим, что, при известных усилиях, я действительно найду наконец эти темные стороны, сумею в ясных и художественных образах воспроизвести их, и даже отыщу для них лекарство в форме афоризма, что преувеличения опасны. Кому предложу я свое лекарство? Не такому ли больному, который, по самой своей обстановке, никаким лекарством пользоваться не может? И не вправе ли будет этот больной, в ответ на мою предупредительность, воскликнуть: помилуйте! да прежде нежели остерегать меня от преувеличений, устраните то положение, которое делает их единственною основой моей жизни, дайте возможность того спокойного и естественного развития, о котором вы так благонамеренно хлопочете!
Вот какая беда может случиться при описании пороков «новых людей». А с добродетелями – и того хуже. Известно, что «новый человек» принадлежит к тому виду млекопитающих, у которого по штату никаких добродетелей не полагается. Значит, самое упоминовение имени добродетелей становится в этом случае продерзостным и может быть прямо принято за апологию. Но писать апологию подобных явлений – разве это не значит прямо идти вразрез мнениям большинства? И притом не просто в разрез, а в такую минуту, когда это большинство, совершенно довольное собой и полное воспоминаний о недавних торжествах*, готово всякого апологиста разорвать на куски и самым веским и убедительным доказательствам противопоставить лишь голое fin de non-recevoir*?[525]
Таким образом, «новый человек», с его протестом против настоящего, с его идеалами будущего, самою силою обстоятельств устраняется из области художественного воспроизведения, или, говоря скромнее, из области беллетристики. Указывать на его пороки – легко, но жутко; указывать же на его добродетели не только неудобно, но если хорошенько взвесить все условия современного русского быта, то и материально невозможно.
Точно такие же трудности представляются (только, разумеется, в обратном смысле) и относительно другой категории людей – людей, почему-либо выдающихся из тьмы тем легионов, составляющих противоположный лагерь, людей, мнящих себя руководителями, но, в сущности, стоящих в обществе столь же изолированно, как и «новые люди», и столь же мало, как и они, сообщающих общий тон жизни (в действительности, не они подчиняют себе толпу, а она подчиняет их себе, они же извлекают из этого подчинения лишь некоторые личные выгоды, в награду за верную службу бессознательности).