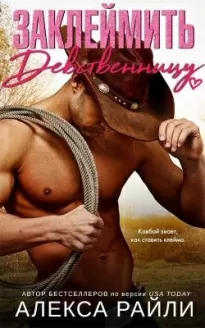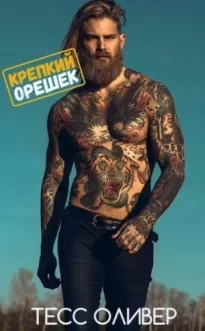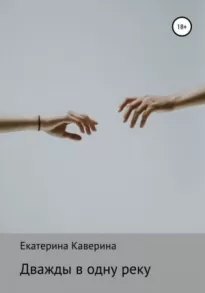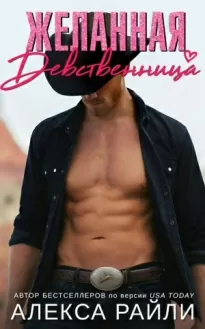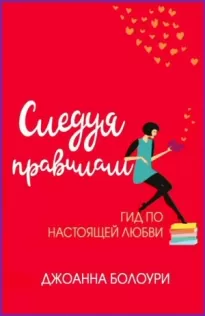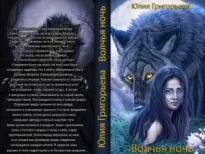Том 6. Проза 1916-1919, пьесы, статьи

- Автор: Леонид Андреев
- Жанр: Русская классическая проза
- Дата выхода: 1996
Читать книгу "Том 6. Проза 1916-1919, пьесы, статьи"
С тревогой размышляет о судьбах русской литературы Андреев:
«Останется ли она при старых своих заветах и, открещиваясь, отплевываясь от войны и ангелов ее, воспоет новую славу прошлогоднему снегу или смело вступит на новый исторический путь…»[38] Но конечный вывод полон оптимизма: «Трудны новые задачи, выдвинутые временем, велик, нов и загадочен герой „народ“, рождающийся в грозе и буре, но верю я, справится со всем этим молодая литература наша. Найдутся новые слова и формы, откроются новые пути и подъезды к восприятию и передаче ломающейся жизни, отыщутся иные способы изображения и снова поднимется на высоту русский писатель – художник, психолог и моралист»[39].
«Война – во спасение, – развивает эти идеи Андреев в другой статье. – Невозможно сейчас предвидеть и предугадать все, что она совершит. Поворот, ею сделанный, огромен. Но ясно одно, что старому миру конец! Новая жизнь взойдет на его развалинах. И, Конечно, иным станет искусство. Трудно говорить, конечно, о тех формах, в которые оно выльется, но несомненно, что содержание его станет значительным и важным. Думается, что вопросы личности будут поставлены новой литературой с особенной остротой. Литература займется проблемой – личность и коллектив. Ведь на смену толпе, современной толпе, явится коллектив – Вселичность. С ним, поглощающим индивидуальность, вступит личность в конфликт… И вот литература займется решением вопроса: как возможно примирить эти два начала, как устроить гармоническую жизнь, – жизнь коллектива и жизнь личности»[40].
Итак, содержание новой трагедии – человек и народ, судьба личности и судьба коллектива. Все это звучит почти как пушкинское: «Что развивается в трагедии? какова цель ее? Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная»[41]. С той, однако, и очень существенной разницей, что в понимании судьбы человека, судьбы личности, так же как и в понимании судьбы народа, – в самом содержании этих понятий мысль Андреева столь же далеко ушла от Пушкина, как и взрастившая его эпоха. И личность уже не та, и народ сильно изменился.
Эта новая личность и этот новый народ, хлебнувшие лиха в предвоенное пятилетие, а теперь мучительно самоопределяющиеся в трагедии мировой войны, – главные темы Андреева в рассматриваемый период.
Их первым абрисом, пунктирным наброском, разумеется, подлежащим последующему глубокому осмыслению и художественной разработке, стала опубликованная в середине 1916 г. в альманахе «Шиповник» повесть «Иго войны». Замысел повести органически вытекал из самой позиции писателя в годы войны – позиции патриота и демократа, убежденного в том, что истинный смысл войны – в ее роли «кровавого моста», трагического перехода от старого к новому порядку, что всенародный размах невиданного исторического действа неизбежно приведет к падению «самодержавного романовского дома» и к воскресению России[42].
Андреев озаглавил повесть «Иго войны», то есть бремя, гнев, порабощение, а никак не апофеоз войны. И такое название, имевшее к тому же дополнительный оттенок, – так как в народном сознании оно навсегда связано с величайшим испытанием для русских в пору чуть ли не двухсотпятидесятилетнего монголо-татарского порабощения, – конечно же, было в большем родстве с понятиями «безумия и ужаса», чем с «восторгом и славой», «упоением в бою» или «счастьем битвы»[43]. На протяжении многих лет Андреев неизменно обращался к одной и той же теме, правда, всякий раз выступавшей в неожиданно новом облачении, – теме человеческого прозрения, выхода за пределы традиционного, будничного существования, устойчивого и привычного, но узкого и ущербного взгляда на мир. Эта тема определяла главное в судьбе героев «Жизни Василия Фивейского», «Губернатора», «Черных масок» и «Екатерины Ивановны», «Профессора Сторицына» и «Собачьего вальса». Теперь ее наполняет своими мыслями и рассуждениями, своим духовным поиском в годы войны маленький человек Илья Петрович Дементьев.
Однако уже в том, как Андреев величает своего героя, проглядывает новое отношение и к личности маленького человека, и к его роли в изменившихся исторических обстоятельствах; писатель дает своему бухгалтеру имя и отчество, свидетельствующие о том, что перед нами один из тех, на ком мир держится (имя «Илья» означает «исполненный Божьей силы», а «Петр» – «камень»), человек, наделенный немалой духовной крепостью, опора и поддержка всего сущего, – пробуждающаяся новая сила страны.
Повесть «Иго войны» строится как дневник Дементьева. Поэтому духовный мир маленького человека предстает перед нами во всей своей безыскусности, жестко связанным с множеством бытовых проблем. Вырваться за их пределы и понять подлинную суть своей жизни герою, как это ни парадоксально, помогает война. Сначала Илья Петрович с беспокойством пишет не только об ужасах и жестокостях войны, но и о вызванных ею бытовых неурядицах, неуклонном росте цен, необходимости искать дополнительный заработок и т. д. При этом он не забывает сказать, что в своем восприятии войны, спокойном и взвешенном, он скорее всего субъективен, поскольку находится в особом положении: окопы его не ждут, в свои сорок пять лет он не подлежит призыву в войска. Но чем дальше, тем больше трагическое мироощущение овладевает Сознанием Дементьева. Война все чаще представляется ему чудовищным абсурдом, страшной нелепостью, «больше похожей на сплошное живодерство, чем на торжество какой-то справедливости». Война, по его мнению, это, всеобщее одичание, в котором не только «низшие, необразованные классы, но и профессора, ученые, адвокаты и другие деятели с высшим образованием режутся насмерть, грызутся, как звери, совершенно осатанели и потеряли всякую человечность». Совершенно неприемлемы для Дементьева всяческие теории прогресса, требующие человеческих жертв для своего осуществления. С возмущением пишет он о «безбожной статье» «одного из корифеев нашей литературы», поставившего своей задачей теоретически оправдать развязанную войну. Согласно представлениям этого господина, война сулит «необыкновенное счастье» будущему человечеству, потому что способствует обновлению всего общественного организма через умерщвление его отдельных ненужных и больных «клеточек». Мысль о том, что его, Илью Петровича Дементьева, кто-то может счесть примитивной статистической единицей, никому не нужной и даже больной «клеточкой», которой необходимо удобрить землю для грядущего счастья, справедливо вызывает протест у героя Андреева. «Если вчерашний человек страдал для меня, а я должен страдать для завтрашнего, а завтрашний будет страдать для послезавтрашнего, то где же конец, где смысл в этой бессмыслице? – нет, довольно этого обмана. Сам хочу жить и пользоваться всеми благами жизни, а не навозить собою землю для какого-то будущего джентльмена-белоручки…» – со страстью героя Достоевского формулирует «карамазовские вопросы» Дементьев.
Положительного, оптимистического, для всех равноприемлемого ответа на эти вопросы нет. Но сама постановка их поднимает сознание маленького человека на такую высоту, откуда все происходящее, в том числе и война, ее испытания, жертвы, весь ее ход, предстают под иным углом зрения, как преломление общей трагедии человеческого существования. В этом плане повесть «Иго войны» такая же трагедия, как и другие произведения Андреева тех лет, то есть, если воспользоваться собственными словами писателя, «протекает она в тех нагорьях жизни и мысли, где вопросы уже не рассматриваются под углом обывательского настроения, где мерки иные, иные и слезы»[44].
Дышать этим разреженным воздухом трагедии вовсе не легко, гораздо проще спуститься в долины каких-нибудь утешительных иллюзий, привычных догм и прекраснодушных самообольщений, проще найти опору для утерянного смысла жизни на привычных для русской мысли путях отказа от личного во имя общего, растворения личного горя в общей национальной и человеческой катастрофе. Но Андреев на это не идет. Конечно, его герой в своих переживаниях познает и новое чувство родины, России, быть может осужденной на гибель, и минуты счастливого единства с простым народом, и несравненно более богатое наполнение всех своих человеческих связей, в том числе с женой и детьми. Но главное его обретение – это возвышенно-трагический взгляд на мир и человеческий удел на земле. «Со скорбью и нестерпимой жалостью смотрю я на людей. Какая тяжкая их доля на этом свете, как трудно им жить со своею неразгаданной душой! Чего хочет эта темная душа? Куда стремится она через слезы и кровь?»
Вопрос этот задает уже не «клеточка», а человек, личность, родившаяся в великих испытаниях и принимающая на себя ответственность за все, за войну, за судьбу страны, за то, чтобы был найден выход из «всеобщего страдания». Ответа на вопрос, разумеется, нет. Но нет и «успокоения в безнадежности», хладнокровного приятия бремени жизни. Горит у героя сердце, и духовный поиск его продолжается.
Трагическое мироощущение окрашивает и драматургию Андреева рассматриваемого периода. Правда, замысел и «Собачьего вальса», и «Реквиема» относится еще к довоенным временам, но завершаются обе эти пьесы уже в условиях войны. И война, естественно, накладывает на них свой отпечаток, побуждает писателя все напряженнее искать выхода для человека в этом мире абсурдной жестокости, выхода на путях новых нравственных координат.
Тема обеих этих пьес – все та же постоянная у Андреева тема судьбы человека в этом мире, его трагического удела во вселенной. Но никогда, быть может, эта тема не была им выражена столь полно и художественно совершенно. Словно остались наконец далеко позади все поиски, все более или менее удачные сценические опыты, – и «вещи замечательные», «вещи будущего», как назовет «Собачий вальс» и «Реквием» сам драматург в личном дневнике, вобрав в себя все найденное и наработанное, счастливо увенчают долгие и мучительные искания[45].
Писателя уже давно томила мысль о том, чтобы сделать свой, «андреевский» театр не только необычным и смелым, поразительно новым, сознательно ломающим все привычные каноны и в этом смысле дразнящим и вызывающим, но и художественно безупречным. «Очень Вы меня растревожили Вашей надеждой, что я напишу совершенную драму, – откликался Андреев в октябре 1913 г. на письмо Вл. И. Немировича-Данченко. – Дорогой мой, разве я сам не хочу этого… Но не выходит, чего-то не хватает: пороху, должно быть»[46]. На этот раз достало всего: и пороху, и ответственности перед собственным талантом, перед самыми своими задушевными идеями, чтобы отлить большой творческий замысел в соответствующую ему художественную форму. Сам писатель высказывался о «точно и счастливо найденном» названии для пьесы «Собачий вальс»[47].
«Точно и счастливо найденное» было, однако, на деле плодом длительных и упорных исканий, своего рода итогом творческого пути. Над «Собачьим вальсом» и «Реквиемом» Андреев трудился как никогда долго, вопреки своему обыкновению, прерываясь, уходя, а потом вновь возвращаясь, доделывая и переделывая, и даже, как он сам выразился в одном из писем к Немировичу-Данченко, «доживая» замысел («Надо что-то дожить, а на это требуется время и время»[48]). Особенно долго продолжалась работа над «Собачьим вальсом», начатая летом 1913 г., а завершенная осенью 1916 г.