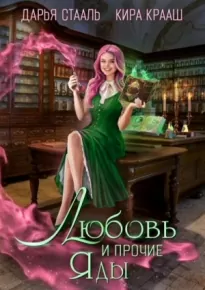Двор. Баян и яблоко

- Автор: Анна Караваева
- Жанр: Советская проза
- Дата выхода: 1975
Читать книгу "Двор. Баян и яблоко"
Кольша побежал в избу, загремел посудой у печи. Из закутка вышли бурый боров с черными прогалинами по бокам, белая матка с розовым отсветом под мягкой щетиной, пятерка шустрых поросят. Подошли к корытцу, порылись и повернули к хозяину жадные тупые пятачки.
Степан встал, вытянулся во весь рост, посмотрел на свиней, на Кольшу с лоханью, полной дымящегося пойла, и пошел в чулан, крикнув брату:
— Воды-то теплой на свиней оставил?
Кольша ответил из хлева:
— Оставил, хватит.
Степан пошарил в чулане— корок уж не было. Сердито проворчал:
— Ишь, вот и корми тут скотину…
На шестке он нашел в чугунке сухую гречневую кашу, понюхал, мотнул головой: «Сгодится еще», — и вывалил в ведро. Потом насыпал отрубей, накрошил картошки, помешал и понес свиньям. Они прижались бок к боку и громко зачмокали. Поросята вертели тонкими хвостиками, свивали их в колечки и лезли ближе к корыту.
Кольша вынес из амбара большой туес с овсом, запнулся и просыпал зерно. Степан вырвал у него туес и крикнул раздраженно:
— Глядеть же надо… дурень!.. Овса-то коню еле-еле до нового хватит.
Кольша ответил с готовностью:
— Гармонь продам, а коня накормим.
Кольша двигался сейчас ловчее и быстрее, чем всегда, и все посматривал на брата.
Когда накормили скотину и неотложную каждодневную работу сбыли с рук, Степан глянул на Кольшу и спросил глухо:
— Значит… все об этом знали?
Кольша кивнул:
— Да уж наверняка все.
Степан потер шею и сказал, кривя рот:
— Все… только я один целый месяц ничего не знал… Чего же ты, брат мой родной, ничего мне не открыл?
Кольша заговорил стремительно, словно только этого и ждал:
— Меня как на узде Марина и Платон держали, Степа!
Однажды Кольша увидел, как Марина и Платон стояли обнявшись. Заметив Кольшу, оба побледнели от испуга и что-то забормотали, чтобы отвести ему глаза. А потом пригрозили, что со света сживут, если он вздумает рассказать брату. Угроз своих не забывали повторять, следили за ним.
— Они следили за мной, грозились… А я столько раз хотел написать тебе, но мне жалко тебя было, Степа.
Потом, когда ты домой вернулся, еще жальче стало: вижу ведь, как ты работаешь от всей души, людям помогаешь, радуешься… И опять я ничего не сказал… Ну вот прямо-таки до слез сердце за тебя болело… Но хоть и тошно мне было, а все же куда лучше, чем тогда…
— Когда они… те двое по двору расхаживали? — сдавленным голосом спросил Степан.
— Да, да… Ох, я думал, весь изведусь, браток… Платон по двору распоряжался, лошадь когда хотел брал… да еще овса ему насыпь поболе в дорогу… Днюет и ночует, бывало, у нас…
Кольшино лицо дрожало, глаза мигали. Только тут заметил Степан, как плохо вырос брат, какой он узкогрудый и бледный.
Кольша бочком поглядел на сжатые кулаки старшего брата, на его злобно сведенные брови и пылающее гневом лицо.
— Чего же замолчал?.. Говори… — хрипло откашлялся Степан, смотря себе под ноги.
— Да-а… Когда ты приехал, поначалу обрадовался я… Ну, думаю, теперь Платон к нам приходить не будет… и Марине уж нельзя ко мне придираться да кричать на меня.
Степан вдруг мрачно и отрывисто захохотал.
— Подумать только… я, боец Красной Армии, простофилей сидел, ничего не замечал…
Он задохнулся, будто обжегся какой-то новой мыслью.
— Что же, если этот… Платон гостевал тут, кто же работал-то?
— Платон и работал. На пашне, по двору тоже…
— A-а, вон оно что-о… и хлебушко мой ел, и… женой пользовался!
— Марина хлеб с ним делила. Осеннись, к примеру, Платон целый воз к себе уволок.
Степан ломал пальцы, крутил головой, морщился, жмурил глаза, будто у него болели веки.
— Говоришь, Платон и по двору работал?
— Да, и по двору тоже распоряжался… В начале зимы поросят сам возил продавать, сапоги себе из города привез хорошие… Ну, Марине тоже дал сколько-то…
— Мое добро как воры расхищали… мое добро, трудом нажитое! — повторял Степан, сжимая кулаки. Ему вдруг захотелось убежать от самого себя, не видеть этих знакомых стен, не дышать этим дворовым воздухом, словно пропитанным горечью и болью.
— Слышь, Кольша, после чая Каурого запряги.
— Сей минут.
Степан напоследок, додумывая, вспоминал:, еще на днях удивлялся он, куда это делись хороший праздничный хомут и шлея с медным узором, недосчитался он двух больших кадок для засола, исчезли и купленные еще в прошлогоднюю летнюю побывку пять листов кровельного железа, ящик крупных гвоздей, пропали из кучи бревен четыре ядреных липовых бревна… Много еще чего другого большого и малого недосчитывался он, еще Кольшу ругал за это. Понял Степан теперь и почему появилась у Марины говорливость: этого-де и не было вовсе, а насчет того-то он просто спутал, а вот то и это она продала при нужде — ведь трудно же было ей, женщине, одной!
«Вот, тебе и «одна»!.. Было с кем мое добро тратить, было кому дарить мое кровное, честным трудом нажитое добро… Я-то, я-то, простодушный, думал-гадал: куда же, мол, все делось?.. Ясно теперь, куда это все делось, на чью потребу пошло».
Ударяя пятками Каурого в теплые бока, Степан то громко стонал, то шептал сквозь зубы:
— Пог-годите вы… мерзавцы… воры…
Каурый, чуя толчки от пяток хозяина, бежал вскачь и весело подбрасывал задними ногами. Над головой нежно голубело небо, весенний ветерок дул в лицо.
Степан вдруг с нервной удалью гаркнул походную красноармейскую песню с гиком и свистом. Поля, голые, черные, бугристые, в легком лоске от недавних дождей, будто слушали, молчали и поддакивали: «Ну, ну, покричи, парень, покричи, ничего!..»
Наконец Степан остановился, спешился. Тень Каурого длинным пятном лежала на позолоченной солнцем полосе. Мягкие губы Каурого жевали и вздрагивали, будто конь, верный хозяйский помощник, вспоминал, как чужая равнодушная рука хлестала его по бокам, покрикивал неприветливо чухой голос и тоскливо было ему, Каурому.
И показалось Степану, что оба они с Каурым чуют сейчас одно. Он обнял вислогубую морду с выцветшей длинной гривой и прижал к своему плечу.
— Каурушко ты мо-ой…
Лошадь моргнула печально и, завернув парную губу, достала его руку, приласкала осторожно, тепло, по-человечьи. На крутогорье возле ручья, где солнце сквозь робко одетые ветки молодых берез весело пятнало зеленую травяную щетинку, Степан разостлал пиджак и лег. Каурого привязал к стволу. Не заметил, как повернулся на бок и заснул. Каурый стоял возле, глядя на лицо хозяина, и поматывал гривой.
Когда Марина, бледная, растрепанная, прибежала к Корзуниным, все поняли, что произошло. Старый Маркел, сидя за столом, бросил считать медяки и серебро, сгреб их в кучу и сказал только:
— Достукались… дурачье…
С самого начала в семье Корзуниных все знали, что Платон живет с Мариной… Но все, будто по уговору, ни в чем не мешали им, а напротив, даже потворствовали встречам. Вся причина была в том, что Платон находился на особом счету.
Уродился он голубоглазым, высоким, тонким, как болотная березка, лицом не по-мужски светел, а русые волосы курчавы и мягки, как чесаный лен. Злые языки говорили: Платон «чужой» у Корзуниных. Мать его Дарья Корзунина в молодости по торговым делам на ярмарки езживала часто одна-одинехонька. Была она тогда сильная, красивая. Болтали, будто Дарья познакомилась с кем-то в городе и Платона родила не мужу, а тому человеку, с кем слюбилась. Но никто наверняка ничего не знал. Говорили, что провинившуюся жену Маркел месяцами бил «смертным боем», но криков Дарьи никто из соседей не слышал. Только довольно долго не показывалась Дарья на улице, а когда наконец увидели ее покупатели за прилавком, сразу не узнали: так побледнела и подурнела жена Маркела Корзунина. Никто больше не слышал ее смеха, пропала и ее веселая говорливость. Она ходила теперь всегда в темном платке, низко спущенном на лицо, и потом все привыкли видеть ее такой. Никто не заметил, как она состарилась раньше времени и совсем перестала показываться на люди: так сильно заболела ногами, что надолго слегла. Старшие сыновья Маркела Корзунина и их жены говорили всем, что Дарья «до скончания жизни обезножила, лежит колодой, себе и родне в тягость».
Все соседи жалели Дарью, потому что в корзунинской семье она была на отличку: тайком от своих кому в долг даст, бывало, а кому и даром, от доброго сердца, мучки, крупки отсыплет, ребятишкам сунет что-нибудь сладенькое. И с людьми она была всегда приветлива, умела пошутить, ободрить, совсем как покойный отец ее, пастух Кузьма. За веселость и за красоту женился на ней, бедной сироте, жадный и хмурый Маркел Корзунин, да не пожилось Дарье в богатом доме. «Как из батраков пот и кровь Корзунин выжимал, так и жену свою не пощадил», — громко осуждали люди.
Но время шло, и о горькой судьбе Дарьи Корзуниной наконец перестали говорить.
В корзунинской семье Платона не любили, он рос как пасынок. Старшим братьям — сапоги с лаковыми голенищами, а Платону — опорки да обноски. С детства он привык чувствовать себя лишним, отца и братьев боялся. Только мать, всегда молчаливая, невеселая, тайком ласкала его и просила ни с кем не связываться.
Пока рос Платон, Маркел Корзунин уже решил так: «Стукнет парню шестнадцать — в монастырь отдадим, там хлеба на всех хватит».
И на Платона привыкли смотреть как на отрезанный ломоть. Двух старших дюжих парней женили рано, невест выбрали им по достатку, тоже кулацких дочек. Снохи оказались по мужьям: деловитые, жадные на работу, не охочие на гулянья, накопительницы добра.
Хозяйство Корзунины вели по старинке. Маркел был из кержачья, новшеств никаких не признавал. Крепкие мужики — сыновья побаивались крутого отца и не перечили, жили одним хозяйством, не делясь, ели и пили общее. В лавке торговали поочередно: каждая супружеская пара в свой день, а старик Корзунин принимал деньги и поздно вечером запирал выручку к себе в шкатулку, обитую железом. Где он прятал эту кованую шкатулку, никто не знал, да и не пытался узнать, так как это было совершенно бесполезно, деньги старик не доверял никому. В субботу лавку закрывали раньше, чтобы всем идти ко всенощной: «Надо о боге подумать», — как любил повторять Маркел. До ухода в церковь Маркел делил недельную выручку на равные части: одна — ему, главе дома, вторая — старшему сыну, третья — среднему сыну. Младшему Платону, понятно, ничего не полагалось в этом дележе, хотя он беспрекословно таскал мешки и бутыли, подметал в лавке, в сараях, ездил с батраками на дальние покосы за сеном. А когда корзунинские большаки или их жены ездили по торговым делам в город, Платон, как батрак, сторожил лошадь на базаре или где придется. Частенько за весь день в городе Платону не удавалось даже «кипяточком разжиться» в чайной, — о нем всегда забывали, как о всяком батраке. Да он и был батраком в своей семье, с той только разницей, что пришлым батракам хоть сколько-нибудь платили, а у него никогда ни копейки не было. Случалось, в праздник отцовские батраки подносили чарочку незадачливому хозяйскому сыну, приговаривая:
— Выкушай, милый, от нашей скудности! Хоть ты и сын, а больше наш брат, чем хозяин.