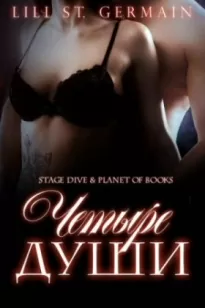Городской пейзаж

- Автор: Георгий Семенов
- Жанр: Советская проза
- Дата выхода: 1985
Читать книгу "Городской пейзаж"
— Не умеет этого делать, — ответил он.
— Я не об этой любви…
— А я и о той и об этой. — Федор судорожно выпил водку и поднялся.
Его не стали удерживать. Нина Николаевна уже в дверях сказала сыну, погладив по голове:
— Прошу тебя, Феденька, подумай хорошенько и, ради бога, не пори горячку. Мне жалко вас обоих.
Но, видимо, что-то в интонации ее голоса не понравилось сыну, что-то он, видимо, услышал свое, какое-то давнишнее страдание почудилось ему в ее словах, точно мать была бы не против, если бы он и в самом деле развелся с женой. Что-то его покоробило, и он взорвался.
— А я прошу… Не только тебя! Я всех! Очень всех прошу не жалеть ни ее, ни меня! Когда человек говорит сгоряча: я убью, он не собирается убивать. Я не собираюсь с ней разводиться. Что вы на меня уставились? Не собираюсь. Люблю ее, и она меня тоже! Я не собираюсь этого делать. Я даже не умею, не могу писать заявления. Для меня пытка! Пытка писать: «ввиду того… что…»
— Проводить тебя до метро? — спросил Борис.
— Только не это! Приеду домой и позвоню. Честное слово. Прошу тебя, Боря, не надо. Я позвоню. Все нормально. — Он наконец виновато улыбнулся и сказал: — А настойка очень хорошая. Прости. Испортил вечер…
— Песню! — весело поправил его брат и со сдержанной нежностью сжал костистый его локоть. Федя с привычной благодарностью ответил ему тем же и чуть не заплакал от обиды.
По дороге домой, в вихревом гуле и вое вагона метро, он вдруг в каком-то ошеломлении, в страхе понял, что обязательно разведется с Мариной. Он понял с удивительной ясностью, что все идет к этому и что, случись это, все будут довольны, все будут делать вид, что ничего не произошло: Борис промурлычет что-то неопределенное, мать будет ласково улыбаться, а Пуша с особенной старательностью хлопотать над его тарелкой, а сам он тоже будет…
Он шел в толпе среди мраморных, мутно сверкающих стен, поднимался по серой гранитной лестнице, ноги несли его по подземным переходам, от поезда к поезду, а сам он в это время ничего не видел и не слышал. Он напрягал все свое воображение, на какое был способен, но не мог представить себе не только общей картины будущей жизни в одиночестве, то есть без Марины, он не мог мысленно нарисовать даже маленькой сценки этой непонятной грядущей жизни, которая должна была наступить для него.
Почему должна, он не знал, но предчувствовал ее приближение.
Но ничего не изменилось. Они так же жили друг с дружкой, смеялись, когда было весело, ссорились из-за пустяков, быстро мирились, ублажая друг дружку за причиненные обиды всякими супружескими нежностями. И Федору порой казалось, что ему только в страшном сне могла пригрезиться нелепая мысль о нелюбви и о разводе с этой женщиной, лучше которой он и представить себе никого не мог.
— Ты мне ответь на один-единственный вопрос, — говорил он ей в эти блаженные минуты жизни, — почему ты такая?
А Марина понимала бессмысленность вопроса и в задумчивой улыбке отворачивалась.
— Ну что? — спрашивал он. — Ты что там увидела?
Она не знала, как ему ответить, и отвечала с водянисто-зыбкой улыбкой на зачарованном лице.
Отвечала удивленно и взволнованно-медленно:
— Ничего. Я просто так.
У нее вообще был замедленный, затяжной какой-то голос. Она знала об этом, объясняя тем, что родилась левшой, но родители, а потом учителя в школе и все, в чьи руки она попадала в детстве, отучивали ее что-нибудь делать левой рукой — держать ложку, карандаш, авторучку, — заставляя трудиться правую.
— Не-ет, ну правда, — смущенно говорила она мужу. — Это теперь доказано. Этого нельзя было делать. Я должна была остаться левшой, а теперь у меня обе руки почти одинаковые. Поэтому и голос у меня такой… Вот ты смеешься, а я-то ведь знаю. Раньше думали, что надо обязательно отучивать от левой руки. Если бы я осталась левшой, я была бы совсем другая и ты никогда не спрашивал бы меня, почему я такая. Не смейся, пожалуйста, это правда.
Были минуты в их жизни, когда он в порывистом нетерпении просил ее, чтобы она послушала, что он написал за последние недели, готовясь к сдаче кандидатского минимума по теоретической грамматике современного английского языка. Он был лингвистом.
— Ты, конечно, ничего не поймешь, — горячо говорил он, выхватывая из пластмассовой папки исписанные листки. — Но это ничего… Дело не в этом! Мне просто надо, чтоб ты послушала. Понимаешь? Ты даже не вдумывайся в то, что я буду тебе тут… Просто сиди и слушай, как будто тебе интересно…
— Почему как будто? Мне и в самом деле интересно, — отвечала ему Марина. — Я тебя очень хорошо понимаю, — говорила она с каким-то скрытым, глубоким изумлением, всем видом своим говоря ему, что дело, которым он занимается, волнует ее больше всего на свете. — Читай, пожалуйста, я слушаю.
И он, тоже волнуясь, начинал читать про классы слов и синтаксические структуры, размышляя о проблемах морфологии и синтаксиса; о принципах морфемного анализа Франсиса, о парадигмах и морфофонетике; о роли просодических факторов в анализе грамматических явлений у Хилла, о его дистрибутивном анализе, о сигментных и суперсигментных морфемах и о том, что такое флексии и парадигмы…
Он страшно волновался, будто сдавал экзамен. А когда заканчивал чтение, смущенно говорил, ворочая пересохшим, липким языком:
— Вот такой галиматьей я и занимаюсь. А ты говоришь — хорошо понимаешь меня. Налей мне чайку какого-нибудь холодненького, что-то все во рту… язык как деревянный…
Она приносила из кухни чашку чаю и спрашивала:
— А может быть, подогреть?
— Спасибо, — отвечал он, жадно глотая жидкий прохладный чай. — Что-то я хотел сказать? А-а, впрочем… Слушай-ка, ну что? Ты хоть что-нибудь поняла? — И он с глуповатой улыбкой вглядывался в нее.
Чашка дрожала в его пальцах, как у пьяницы. Под глазами появлялась маслянисто поблескивающая серость, точно он не спал несколько суток и теперь страдал от невыносимой усталости.
— Только не ври, — предупреждал он ее. — Я сразу пойму. Ты этого не умеешь делать. Так что вот, учти…
— Если хочешь знать, — отвечала она в счастливой задумчивости, — я действительно ничего не поняла.
— Слава тебе господи!
— Нет, но теперь ты, пожалуйста… Теперь я скажу тебе, а ты послушай, потому что это ничего не значит, что я ничего не поняла… Ровным счетом — ничего! Вот я не знаю, почему это так бывает, но иногда я включу вдруг телевизор, а там что-нибудь неинтересное. На другой программе тоже нет ничего… И вот как-то я случайно остановилась на учебной программе, а там черная доска, как в школе, и какой-то мужчина в обыкновенном костюмчике, у него даже, я помню, лацкан один отогнулся, потому что он его не погладил… Старомодный серый костюмчик, с острыми уголками на лацканах… И лицо тоже простоватое, усталое. А в руке мелок, и он быстро-быстро этим мелком что-то пишет на доске… Наверное, что-то из высшей математики… Я ничего не понимала! Но ты не можешь себе представить, как мне было интересно! Я смотрела на него во все глаза, как на знаменитость… Вот ты не веришь, а это правда. Голос у него такой спокойный, и объясняет он про то, что на доске написано, без всякого волнения… А на доске! Там всякие скобочки, круглые, квадратные, всякие значки, цифры, черточки, уголки. Он чуть ли не полдоски исписал, а все пишет и пишет и что-то все время говорит, говорит… Мелок быстро постукивает по доске, а из-под него все новые значки и цифры — строчка за строчкой. Просто чудо какое-то, а он спокойно об этом говорит. Лицо у него усталое, но не потому, наверное, что он устал, а, наверно, ему скучновато все это объяснять, и он словно бы от скуки устал. Он пишет и говорит, а я смотрю и ничего не понимаю. Но мне так интересно, что я просто глаз отвести не могу, потому что вижу, что этот человек так много знает, что все, что он на доске написал и о чем рассказал, — все это ему уже и не интересно даже, как какая-нибудь таблица умножения. А я все смотрю и думаю, что же это происходит: я ничего не понимаю, а мне интересно! Потом уж подумала, что это, наверно, потому, что для него все, о чем он говорил, так просто и ясно, что рука сама как будто исписала всю доску всякими цифирками, а сам он всего-то навсего объяснил, что рука его написала. Ты понимаешь? У него рука умная, нервная, а сам он спокойный, уверенный. А мне почему-то приятно. Смотрю на него и думаю: есть же люди, которые все это понимают, а другие смотрят и тоже все понимают. Думаю, вот ведь как хорошо! А про себя тоже думаю, что тоже хорошо, что ничего не понимаю. Так странно все это! Даже когда передача закончилась, я даже пожалела, что так быстро все это… Так бы и смотрела целый час. А потом на другую программу перевела, а там что-то понятное говорят. Все понятно, а мне совсем неинтересно. Ну почему это так бывает? Вот ты мне не веришь, думаешь, что я тебе просто что-то приятное хочу сказать, а ведь это правда, я ничего не сочинила, все так и было… Не знаю почему.
И она задумывалась, будто внутренним своим зрением опять видела лектора в старомодном костюме с острыми уголками помятых лацканов и с простецким, усталым лицом.
— И вот с тобой тоже так же, — говорила она в тихом и радостном изумлении, что случалось с ней очень редко. — Тоже ничего не понимаю, а мне интересно. Ты у меня такой умный, даже страшно… — И она внимательно смотрела на мужа, словно бы изучая его и как бы пытаясь понять: он ли это только что был перед нею или ей показалось.
Он же слабел в такие минуты, кожа его покрывалась мурашками, руки делались прохладными и влажными, и пахло от него в эти минуты младенческой пеленкой.
«Я глупец, — думал он, собирая вздрагивающие листки бумаги. — А она настоящая умница ! Все понимает… Все!»
Волнение его доходило до того, что он с трудом порой удерживал слезы умиления, впадая чуть ли не в полуобморочное состояние немощного склеротика. В голове стоял шум, мысли путались, и он, пошатываясь, уходил мыть лицо холодной водой.
Потом говорил с наигранной бравадой в голосе:
— Вот какого мужа себе подцепила! Гений! Это все еще цветочки. Вот сдам кандидатский, вот тогда… Тебе страшно?! У меня у самого спина холодеет! То ли еще будет!
— Все будет хорошо, — говорила она уверенно и спокойно.
Но наступал момент, когда он, соскучившись по брату, поднимал трубку телефона и набирал его номер. Не успевал он услышать гудок, как она, потупившись и кося холодными глазами, вставала и тихонько уходила из комнаты. Будто вместе с телефонной трубкой он поднимал в душе молодой жены какой-то рычажок или включал какую-то энергию в ней, которая ветреным порывом поднимала ее с места и уносила прочь, как если бы ей грозила вдруг опасность.
— Федюша, ты? — слышал он голос брата. — Здравствуй, родной. Ты чего молчишь? Алло! Не слышу твоей улыбки! Как настроение? Ага, вот теперь слышу. Ну рассказывай, что новенького… Спихнул денек с плеч? Как, говорю, денек прошел? С плюсом или с минусом? Ну и хорошо. И у меня тоже с плюсом. Ты знаешь, что у меня в холодильнике? Ни за что не угадаешь… Приходи, угощу. Нет, не то! В банках, длинненькие, в собственном соку, твои любимые. Они самые — сосиски! Но это не все, Федюша! В банках — пиво! Финское — фирмы «Хофф». Не пробовал, конечно. Знаешь, откуда это «хофф»? Говорят, жил там русский по фамилии Синебрюхов. При царе еще. Стал варить отличное пиво, а пиво как-то ведь назвать надо. Отбросил синее брюхо, а хов оставил. Почему не улыбаешься? Не слышу. По-моему, смешно! Говори, когда приедешь, а то я за себя не ручаюсь! Какой двор? Ах, «хофф» — двор? По-немецки, понятно, может, и так. Да какая нам разница! Было бы пиво хорошее.