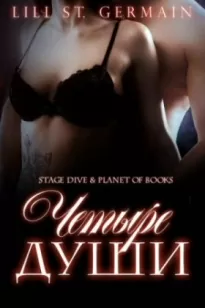Городской пейзаж

- Автор: Георгий Семенов
- Жанр: Советская проза
- Дата выхода: 1985
Читать книгу "Городской пейзаж"
Слыша в себе эту небывалую доселе мольбу, которая готова была вылиться в слова, в неразрешимый, вечный вопрос, обращенный к кумиру, она верила в чудо, забыв о себе, и ей казалось, что жизнь подарила единственный шанс получить ответ не только на вопрос, как быть красивой, но и — как жить.
Она всегда отличалась нетерпеливостью, а тут нетерпение ее достигло силы истерики или безумия. У нее жаром горели щеки и пересыхало во рту, дышала она неровно, будто навзрыд, и даже пошатывалась от ударов огромного, распирающего грудь сердца.
На нее внимательно и строго посмотрел какой-то мужчина.
В этот момент она почувствовала вдруг свои липкие от растаявшего мороженого пальцы.
«Да что же это такое! — подумала она в отчаянии. — Как же я с такой рукой…»
Она была уверена, что художница протянет ей руку, но, почувствовав липкую кожу, неприятно поморщится и отвернется от нее, как на витрине. Это было самым страшным, что могла она себе представить, и опрометью кинулась прочь из магазина. Расталкивая людей в дверях, выбежала на улицу, порылась в кошельке, зажатом вместе с авоськой в потной руке, и, не найдя копейки среди мелких монет, бросилась к табачному киоску.
— Дяденька! — воплем взмолилась она. — Разменяйте, пожалуйста!
Тот тоже внимательно и озабоченно посмотрел на нее и не стал спорить.
Она подбежала к автомату, коленками ухватила, как клещами, авоську с огурцами, бросила в щель копейку и подставила руки под фыркающую воду. Она торопилась. Вода из пригоршни лилась на платье и на ноги, и ей было приятно прикосновение воды. Она чувствовала, как невесомо колышется тело от ударов сердца. Щеки были так горячи, что ей казалось, будто у нее вспотели глаза от этого ядовитого жара и какая-то липкая пелена затмила свет.
Вдруг она услышала бранчливый голос за спиной.
— Вон до чего дожили! — говорила старая женщина. — Люди воду пьют, а она тут… Ты б еще ноги помыла, нахалка!
Неожиданно для самой себя, с исказившимся лицом, она закричала истошно и площадно:
— Да ладно тебе! Не твое дело! Не твое это… понятно?! Не твое! И не суйся! Страхолюдина несчастная! Уйди! — Даже ногой притопнула и сжала кулаки, судорожно сведя локти к животу. — Уйди, зараза! — кричала она, и слезы текли у нее по щекам. — Уйди!
Старая испугалась и торопливо пошла прочь, бормоча себе что-то под нос. Кто-то поблизости недоуменно нахмурился, не понимая причины крика и слез, кто-то из ожидающих троллейбуса отвернулся, не желая ввязываться.
А она прижала мокрые ладошки к лицу и старалась унять слезы, которые душили ее беспричинной, казалось, обидой. Вытирая слезы руками, вытирая мокрые руки о волосы, как бы поглаживая себя и успокаивая, она остро ощущала жар потной и обезумевшей от какой-то ереси головы.
Потом взяла в руку авоську с темно-зелеными огурцами, одетыми в белесую пленку, и та ей показалась тяжелой и безобразной. Увидела на ногах стоптанные, сбитые босоножки, из дырок которых торчали длинные, пропылившиеся пальцы, и устало-раздраженная, опомнившаяся, как после припадка, пошла домой с острой, неутоленной жаждой ругани. Мать была на фабрике, но дочь уже знала со злорадством, что дотерпит до вечера и обязательно поругается, доведет мать до слез, потому что дальше так жить невозможно, — она не хотела так жить, хотя и не представляла себе, как надо. А ругаться она умела.
Она шла домой, поднимаясь по крутой улочке вверх, и думала о себе так, будто прожила уже долгую жизнь, все в ней узнала, о многом догадалась и поняла главное — так жить нельзя.
Сколько помнила себя Рая Клеенышева, Раенька, как звала ее мать, хотя ей самой нравилось, когда ее называли просто Ра, она никогда не сомневалась в том, что в жизни ждет ее что-то необыкновенное.
Ей было семнадцать, и ничто не в силах было поколебать в ней этих предчувствий: она понимала себя одинокой, никем не понятой и таинственной жительницей Земли.
Уровень ее самооценки был очень высок!
Порой она как бы из своего грядущего, которое не имело, конечно, никакого определенного образа, с сожалением и сочувствием смотрела на мелкие и, как ей казалось, жиденькие и мутные удовольствия людей, усмехаясь из своего далека над всей этой суетой.
Со временем у нее выработалась и закрепилась жалостливо-сочувствующая гримаса на лице, с какой она выслушивала рассказы людей об их мнимых удачах и маленьких поражениях. Особенно любили жаловаться ей и часто приходили, как на исповедь, девочки, с которыми она училась, укрепляя в ней чувство исключительности.
— И что? — с вялой горечью в голосе спрашивала она, выпячивая пухленькую губку и скучающе оглядывая взволнованное лицо рассказчицы. — Все это глупость, — заключала она со вздохом.
И у нее появлялось порой желание погладить девочку по голове, словно перед ней был бездомный мягкий котенок, вызывавший в ней жалость.
Никто из подруг никогда не обижался на нее, и, приходя к ней с душевными своими тайнами, они успокаивались, а острота их переживаний сглаживалась после исповедального разговора.
— Все это глупость. Забудь, — говорила она, если ей признавались в очень серьезных и непоправимых бедах. — Что для тебя изменилось? — спрашивала Ра в таких случаях. — Ты заболела? Нет. Глупость все это. Теперь никто не обращает внимания. Это не самое главное. Раньше косы носили, а если стригли — считалось грехом. А потом стали стричь. Ну и что? Что от этого изменилось? Надо жить по совести.
— Ой, Ра! Ты ужасно сильная личность, а я дура. Я никак не могу успокоиться. Боюсь, мать узнает. Скажи, а у тебя это было? И ты ничего, да?
— А это, девушка, не твое дело, — грубо и зло отвечала Ра Клеенышева и надменно откидывала голову. — Не я к тебе, а ты ко мне пришла. Ты свое белье трясешь перед моим лицом. Хватит с меня и того, что я терплю.
Она уже знала, что на нее не обидятся, если она и побольнее хлестнет, потому что те, кто приходил к ней, должны бояться ее, раскрыв ей свои секреты. У нее не было никакого расчета, но она инстинктивно чуяла, что именно так и должно быть: тот, кто боится, не обижается или, во всяком случае, скрывает свою обиду даже от самого себя.
Так оно всегда и выходило на деле.
Но она никогда и никого не хотела обидеть. Пока ей было интересно, она наблюдала и терпела радость или слезы человека, а когда он ей надоедал, она отмахивалась от него и тут же забывала о доверчивом сизом голубе, которого ей приятно было кормить хлебными крошками, но у которого она могла бы со злостью выдрать хвост, если бы он сел на плечо и испачкал платье. Она отмахивалась от людей вовсе не со злостью, а с тем щекотным нетерпением, начинавшим вдруг мучить ее, — нетерпением остаться наедине с собой, с ощущением своего мистического превосходства над всей этой жиденькой кашицей жизни.
Еще большее нетерпение она испытывала, когда ее начинали в чем-нибудь поучать взрослые люди. Это ей казалось проявлением высшей человеческой жестокости. Они, поучая, хотели, чтоб она повторилась в них, то есть была бы такой же, какими были они, и ей страшно становилось от мысли, что эти люди не догадываются, что впереди ее ждет нечто небывалое, нечто не сравнимое ни с чем: еще никогда это ни с кем, ни с одним человеком на земле не случалось, а случится только с ней одной.
У нее начинала дрожать губа. Березовые листики ее глаз трепетали, как на ветру, готовые облететь с пожелтевшего лица: зеленоватые радужки глаз светлели и расширялись, как если бы она вдруг попала во тьму, и в них, казалось, начинали поблескивать багровые отсветы, будто все жилки глаз набухали кровью.
— Ах да, передача опыта… Без опыта невозможно, — гнусавила она с отвращением, на какое только была способна, пытаясь из последних сил изобразить благостную улыбку на лице. — Я так и поступлю, как вы мне советуете. Ничего умнее я никогда не слыхала, — однотонно тянула она, пока не лопалось ее терпение и пока глотка ее не исторгала визгливо-злобную ругань. — Отстань, дура ненормальная! — кричала она. — Розетка старая! Уйди отсюда, а то я не знаю, что со мной будет! — кричала, накликая на себя беду, которую с облегчением принимала и как бы пряталась в ней, успокаиваясь и сохраняя таким способом независимость и величайшую тайну своего бытия, на которую было совершено очередное покушение.
Она панически боялась в ком-то повториться.
Ра Клеенышева и отца своего, который ушел из семьи, когда ей только исполнилось шесть лет и который потом умер, обпившись вина, любила лишь за то, что он не успел ничему научить ее в жизни. Она почти не помнила его, но все-таки кой-какие сценки из жизни с отцом вдруг ярко всплывали в памяти… Дождь, трамвай, черная мокрая улица, бегущие мимо тротуары с отражениями светлых домов, черные зонтики, люди. А она, глядящая в окно с колен отца, на весь вагон со вздохом восклицает:
— О-ой! А в деревне сейча-а-ас! Около фермы утонуть можно до головы, да, пап?
Он в ответ засмеялся, и все люди в вагоне тоже заулыбались, а она вместе со всеми стала смеяться, не понимая, чем она рассмешила их, и так разошлась в своем желании еще больше развеселить всех, что стала подпрыгивать на коленях у отца и, показывая пальчиком на уплывающие назад дома, спрашивала с визгливым захлебом в голосе:
— А это дом для преступников? — веселя людей и смущая отца. — А этот? Тоже для преступников? Да, пап? Этот тоже для преступников? А этот? Ну, пап! А этот?
Она до сих пор чувствовала душевную неловкость перед покойным отцом, особенно когда приходила на могилу, за которой никто не ухаживал, кроме нее. Что это ей взбрело вдруг в голову? «Дом для преступников». Откуда? Она этого не знала. Зато хорошо помнила и берегла в себе то ощущение детской безнаказанности и шальной радости, какой никогда больше не испытывала в жизни, будто что-то отмерло в ней навеки, потерялось, как ключ от квартиры. Без конца надо было взламывать запертую дверь, чтобы сохранить в себе эту счастливую безнаказанность!
Осенью рано ударили морозы. Температура упала до минус шести градусов по Цельсию. Два дня и две ночи дул холодный, пронизывающий, очень непривычный для этого времени года ветер. Улица была наполнена незнакомым доселе тревожно-трещащим шумом — это шумели на ветру промерзшие пластинки зеленых листьев тополя, в жилах которых был лед. Миллионы этих зеленых ледяных листиков постукивали друг о дружку, издавая шумный и недружный хруст и стук. Но на третью ночь небо затянулось облаками, и утром люди проснулись под дождем. Листья тополей обмякли, разбухли, залоснились неживой уже темной зеленью и стали падать. Улица опять наполнилась незнакомым, шмякающим, лягушечьим каким-то шумом. Листья опадали с катастрофической быстротой, вселяя тревогу в души людей. День был пасмурный, деревья мертвенно-тихие. Движение воздуха совсем прекратилось. И в этой тишине днем и ночью падали вниз тяжелые и мягкие листья, убитые морозом. Все палисадники и тротуары были устланы толстым слоем мертвой зелени. Сырой воздух, пронизанный невесомым бусом, который невидимо опускался из облаков, туманя все вокруг, был насыщен запахом оттаявших листьев, источавших смолистую горечь. Листья падали вниз отвесно и быстро и, шмякаясь, безжизненно распластывались на земле. Дворники не успевали сметать их в кучи.