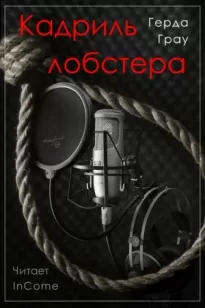Золи

- Автор: Колум Маккэнн
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 2018
- Цикл: Memory
Читать книгу "Золи"
Англия — Чехословакия 1930-1959
Комнатка, в которой я лежу, невелика, но в ней есть окно, и в нем виден ставший мне близким прямоугольник неба. Его дневная голубизна кажется привычной, но в ясные ночи, как будто впервые, становится ясно, что колесо мира не закреплено: вечерняя звезда дарит мне несколько дразнящих мгновений, повиснув в оконной раме. Пронзительное верещание птиц на крышах имеет странный ритм. Я почти слышу, как внизу на улице стрекочет двигатель моего мотоцикла. У меня в теле по-прежнему дорожный скрежет: последний поворот, и мотоцикл выкатывается из-под меня. Странно наблюдать искры, взлетающие от асфальта. Меня несет по нему, потом я ударяюсь о каменную стену. В больнице не было бинтов для гипсовой повязки, мне наложили шину и отправили домой. Я уже поставил крест на поисках, но мне невыносима мысль, что она ушла, что я никогда больше не увижу ее, не услышу ее шагов, ее голоса.
Перед самой аварией под Пьештянами сильный порыв февральского ветра унес мой шарф. Он повис на колючей проволоке, ограждавший военный полигон, и, поболтавшись, свалился на землю. Этот шарф подарила мне Золи, и он был мне очень дорог. Как достать его?
Я не знал, что случится, если я попытаюсь залезть на ограждение. Ветер играл шарфом, мотал его туда-сюда. Он лежал недалеко, но достать я его не мог.
Позади тридцать четыре года, из достижений — разбитая коленная чашечка, на плечах гора шуб, на столе — стопка незаконченных переводов. Из коридора доносятся скрип половиц и тихое постукивание костяшек домино. Слышу, как швабру окунают в ведро с хлоркой, как лязгает ключ в дверном замке — привычные ритуалы мужчин и женщин, одиноко возвращающихся домой с работы. Боже, я ничем не лучше всех этих несчастных, бормочущих «Аве Мария». Как же я в детстве ненавидел походы на исповедь, ливерпульских священников в черном, шевелящихся за решеткой: благословите меня, отец, ибо я согрешил. Сколько же десятилетий я не исповедовался?
Мой отец однажды сказал, что нельзя оценить человека только по одному, пусть и самому дурному его поступку. Но если это верно, то должно быть верно также и то, что о человеке нельзя судить без учета этого поступка. Свой самый дурной поступок я совершил морозным зимним днем в типографии на улице Годрова. Там, под шум станков, я предал Золи Новотна. Поскольку я поступал и чуть хуже, и гораздо лучше и до того, и после, приходится признать, что наследство, которое я оставлю миру, может заключаться в этом единственном поступке, который мучает меня каждую секунду и будет мучить, пока я дышу.
Некоторые из нас еще не рассказали или не хотят рассказывать свои истории. Эти люди сливаются с собственным прошлым, прячутся в памяти до тех пор, пока ее давление не становится нестерпимым. Вероятно, я и сам таков. Наверное, мне стоит поделиться пережитым, пока оно не позабылось или не превратилось, подобно всему остальному, во что-то другое.
Память похожа на мяч, который вращается в направлении, противоположном своему движению, и все же невозможно приземлиться там, откуда ты взлетел. Моя мама родилась в Ирландии, в приморской деревушке в Донеголе. Она работала медсестрой. Отец, приехавший из Словакии, был портовым рабочим. Уверенность в неизбежности боли всегда заставляла маму низко склонять голову, она верила, что судьба жестока и что нет заслуги выше, чем приготовить чашку хорошего чая. Эмигрировав в начале столетия в Британию, отец сменил фамилию на Свон, но свою душу он изменить не смог. В дальнейшем он, поочередно или одновременно, считал себя коммунистом, пацифистом и католиком. Кем он был в первую очередь, а кем в последнюю — неизвестно.
Придя домой из дока, он имел обыкновение ставить темный отпечаток пальца на хлеб, чтобы я не забывал, как хлеб появляется на нашем столе.
С раннего возраста я полюбил родину отца. Бывало, мы сидели вдвоем на ящиках в угольном сарае и настраивали приемник на разные радиостанции. На улице мои друзья играли в футбол. Отец час за часом пытался настроиться на длинных волнах на передачи из Братиславы, Кошице, Праги, а в это время футбольный мяч стучал в стену сарая. Иногда атмосферные фронты пропускали какое-то потрескивание — и мы склонялись над радиоприемником, соприкасаясь головами. Отец записывал услышанное и потом переводил мне. Перед сном я молился на его родном языке.
Началась Вторая мировая война, и никого не удивило, когда отец уехал в Чехословакию сражаться на стороне партизан, хотя и считал все битвы полной бессмыслицей. Он хотел стать медиком и вытаскивать раненых с поля боя на носилках. Отец обещал, что скоро вернется, поскольку Бог придерживается демократических взглядов. Он оставил мне свои наручные часы и книжку Энгельса на словацком. Годы спустя я узнал, что отец стал мастером подрывного дела и специализировался на подрыве мостов. О том, что он попал в засаду и погиб, мы узнали из телеграммы, состоявшей из двух строчек. Мама как-то сразу постарела. Мы съездили на неделю в Донегол, но почему-то оказалось, что это вовсе не то место, откуда она когда-то уехала.
— Теперь никто не живет там, где родился, — сказала она мне незадолго до смерти.
Когда мама умерла, мне назначили опекуна, и последние два школьных года я провел у иезуитов в Вултоне. Ходил на регби в сером свитере с
О юности я помню вот что: домики из красного кирпича, камни, добытые в каменоломне, пыльные столбы света на перекрестках, портовые краны, грошовые конфеты, чайки, исповеди по воскресеньям. Помню, как счищал серый иней с сиденья велосипеда. Когда я уезжал из Ливерпуля, меня провожали отнюдь не скрипки. Я не попал на войну — помогли везение, моя молодость и толика трусости. Я поехал в Лондон, где два года, получая стипендию, учил словацкий. Сошелся с марксистами, без особого успеха выступал с ящиков из-под мыла в Гайд-парке. Время от времени публиковал статьи, но в основном сидел у небольшого окошка с полуоткрытыми шторами и смотрел на темную стену напротив и на выцветший край рекламы «Овалтина»[14].
Я влюбился, правда ненадолго, в прекрасную девушку-библиотекаря, Кейтлин из Кардиффа. Буквально налетел на нее, когда она, стоя на приставной лестнице, ставила на полку книгу Грамши[15]. Но, как оказалось, наши политические взгляды не совпадали, и она выгнала меня, написав в записке, что предпочитает скучную мирную жизнь любой революции.
В моей квартирке вместо небесного горизонта я созерцал книжную полку. Я писал длинные письма романистам и драматургам на родине отца, но они отвечали редко. Я не сомневался, что письма в Лондоне подвергаются цензуре, но все же время от времени на коврик возле двери падали ответные письма, и я относил их в ближайшую чайную, где, сидя за грязным столиком, вскрывал конверты.
Эти ответы всегда были кратки, написаны аккуратно и хорошим языком; я сжигал их в пепельнице, прикасаясь к бумаге курящейся сигаретой. Но в 1948 году после интенсивного обмена письмами с человеком, пачкавшим бумагу чернильными кляксами, я отправился в Чехословакию переводить для литературного журнала, которым руководил знаменитый поэт Мартин Странский. Он написал мне, что ему пригодилась бы лишняя пара рук, и попросил привезти в чемодане несколько бутылок шотландского виски.
В Вене каждый из небольших деревянных домов, где жили русские, обогревался электрической батареей, состоявшей всего из одной секции. За чашкой черного чая меня расспрашивали о жизни, потом переводили из дома в дом, а потом посадили в поезд. На границе с Чехословакией какие-то милиционеры, видимо недобитые фашисты, обыскали чемодан, забрали бутылки и посадили меня в импровизированную камеру. Я обвинялся в подделке документов. Связав руки, меня били по пяткам палками, завернутыми в газетную бумагу. А через две недели в камеру вошел Мартин Странский, который показался мне похожим на тень. Он назвал меня по имени, поднял с нар, окунул свой рукав в ведро с холодной водой и промыл мои раны. Вопреки ожиданиям, он оказался невысок ростом, крепок и лыс.
— Привез выпивку? — спросил он.
В юности он был дружен с моим отцом, вместе с которым входил в кружок социалистов, а теперь поднялся на новый виток спирали: участвовал в коммунистическом путче и пользовался симпатией властей предержащих. Странский хлопнул меня по спине, обнял, вывел за бараки с жестяными крышами и вернул мне документы. Двое милиционеров, которые били меня и отобрали бутылки с виски, сидели в наручниках в открытом кузове грузовика. Один смотрел в пол, другой водил налитыми кровью глазами из стороны в сторону.
— Не беспокойся о них, товарищ, — сказал Странский. — Мы с ними разберемся.
Он крепко ухватил меня за руку и потащил к военному поезду. Белым светом горели прожекторы, новехонький чехословацкий флаг развевался на крыше.
Мы заняли места, пронзительный гудок и шипение пара придали мне сил. Когда поезд тронулся, за окном мелькнули милиционеры в наручниках. Странский засмеялся и хлопнул меня по коленке.
— Ничего, — сказал он. — Посидят денек-другой в карцере, отойдут от похмелья, им полезно.
Поезд шел через леса и кукурузные поля к Братиславе, Столбы, трубы, красные и белые железнодорожные ограды.
От станции Хлвана мы под слабым дождиком побрели вдоль трамвайных рельсов к старому городу. Он показался мне каким-то средневековым, неживым, странным, хотя на стенах висели революционные плакаты, а из громкоговорителей гремела маршевая музыка. Я прихрамывал после битья по пяткам, но старался успевать за Странским. Вдруг мой старый картонный чемодан раскрылся, и оттуда на булыжную мостовую выпала ночная рубашка.
— Ты носишь ночнушки? — расхохотался Странский. — За одно это тебе полагается две недели политической переподготовки.
Он дружески обнял меня. В битком набитом сводчатом пивном зале со стенами, увешанными глиняными кружками, мы чокнулись стаканами за успех революции и, как сказал Странский, взглянув в окно на улицу, за всех отцов.
Зимой 1950-го я долго болел. Доктор выписал меня из больницы без диагноза и отправил домой долечиваться.
Я снимал комнату в старой части города у одного рабочего. В коммунальной кухне на первом этаже было полно мышей. На веревках, натянутых в коридоре, сушились комбинезоны, пальто, изъеденные кислотой рубашки. Лестница в буквальном смысле слова качалась у меня под ногами. В моей крошечной комнате на четвертом этаже я обнаружил на деревянном полу нанос снега. Консьерж забыл починить разбитое окно — неделю назад у меня был приступ головокружения, я упал и разбил стекло, и теперь в комнату задувал холодный ветер. Я перенес постель в единственную теплую часть комнаты, туда, где шипел тарельчатый клапан батареи отопления. В перчатках и пальто я свернулся возле этого клапана и заснул. Проснулся я рано утром от приступа кашля. Ночью снова шел снег, и теперь он тонким слоем лежал на полу. Возле труб, ведущих к радиатору, снег растаял, оставив на древесине мокрые пятна. Однако то, что я ценил больше всего — мои книги, — стояло в порядке на полках. Томов было так много, что они заслоняли собой обои. Мне предстояло перевести главы Теодора Драйзера и Джека Линдсея, а также статью Дункана Галласа, но от одной мысли о работе становилось страшно.