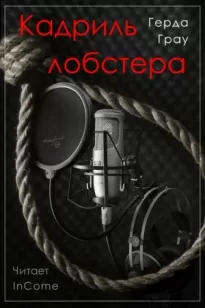Золи

- Автор: Колум Маккэнн
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 2018
- Цикл: Memory
Читать книгу "Золи"
Кампеджио, Северная Италия 2001
Сегодня рано утром, зажигая первую керосиновую лампу, я подумала, как странно испытывать такой покой, когда все настолько неопределенно.
Лампа осветила комнату. Я выдвинула ящик старого письменного стола, встряхнула, пробуждая, авторучку. Чернила брызнули на бумагу. Я подошла к окну и посмотрела на горы. Энрико говорил мне, что требуется много усилий, чтобы выкинуть снег из головы. Он имел в виду не тропинку от мельницы до дороги, сугробы у дороги, белизну деревни или ледники высоко в Доломитах — больше всего привыкаешь к снегу в сознании. Я так и не смогла ничего написать, поэтому надела его старые ботинки и пошла в деревню. Вокруг не было ни следа, только его — то есть мои. Я посидела на ступеньках старой кондитерской и подумала о твоих вопросах, о том, как дороге удалось завести меня в такое место.
Прежде чем в деревне появились какие-то признаки жизни, я прошла по извилистой дороге к мельнице. Еще не рассвело. Я положила дрова на печь и зажгла еще две керосиновые лампы. В комнате было тепло, ее заливал янтарный свет. Я только и слышала, что голос твоего отца. Он был во всем, даже его ботинки оставили влажный след на полу.
События жизни, в отличие от наших рассказов о них, не имеют настоящего начала. Семьдесят три зимы прошли перед моими глазами. Часто, сидя у твоей постели, я нашептывала тебе о далеких днях. Рассказывала тебе о девушке, оглядывавшейся назад; о твоем прадедушке, о том, что с нами случилось в Дрожащих горах; о том, как мы ездили и ездили по нашей земле, как я пела; о том, что случилось со мной и с этими песнями. Мне не дано было знать, что сотворит карандаш в моих пальцах. В той, предыдущей жизни я слыла знаменитостью. Казалось, это лучшие годы, но длились они недолго — возможно, так и должно было быть, — и настало время изгнания. В моей новой жизни я не выношу и мысли о своих старых стихах. При малейшем воспоминании о них у меня мороз идет по коже. Я уже сделала маленький гробик для них в день суда надо мной в Братиславе, когда я ушла от домов-башен. Я обещала себе, что никогда больше не буду писать и не попытаюсь вспомнить старые стихи. Иногда, конечно, их ритм проплывал у меня в голове, но по большей части я отгородилась от них, вытолкала их, оставила позади. Если они и возвращались ко мне, то в виде песен.
За все эти годы я ни разу не посмела прикоснуться ручкой к бумаге и все же должна признать, что раз-другой после встречи с твоим отцом испытала вдохновение. Я сидела, ждала, пока он покажется с другой стороны горы, или пройдет по дороге от мельницы, или появится у окна, и думала, что, наверное, сумею снять колпачок с авторучки, вырвать чистую страницу из его дневника и записать свои простые мысли. Однако это пугало меня, напоминало слишком о многом, и я не могла ничего записать. Это кажется странным теперь, после стольких лет, а тебя, чонорройа, даже может насмешить, но я боялась, что если попробую написать о событиях своей жизни, то снова потеряю то, что обрела. Были и горы, и молчание, и твой отец, и ты — со всем этим я не хотела бы расстаться. Твой отец покупал мне книги, но никогда не просил меня писать. Единственный человек, которому я говорила о своих стихах, был Паоли, и он сказал, что ничего не знал бы о поэзии, если бы я не напоила его ею. Ни Паоли, ни твоего отца уже нет в живых, а ты где-то далеко, и я постарела, сгорбилась и даже успешно поседела, но теперь, думая о твоих вопросах, я понимаю, что у меня больше нет причины бояться, поэтому я сажусь за этот грубо вытесанный стол и вновь пытаюсь писать.
Сорок два года!
Полет птицы за окном удивляет меня так же, как слово.
Сейчас я жалею, что сожгла вещи твоего отца. Понимаю, что надо было сохранить их для тебя, но горе толкает нас на такие глупости! Однажды он сказал мне, что хочет, чтобы его тело положили на вершине, откуда он мог бы смотреть на обе страны, на Италию и Австрию, и вспоминать жизнь, состоявшую из перетаскивания сигарет, запчастей для тракторов, кофе и лекарств из одной страны в другую. Он был не против того, чтобы тело оставили там соколам, орлам и другим пернатым, ему почти нравилось представлять, что его съедят канюки, как он называл большинство тирольских птиц. Но, когда пришло время, я не смогла этого сделать, дорогая моя. Идея оставить его там казалась мне дикой, поэтому я собрала все его пожитки, кроме пары обуви, сделанной из старого чемодана, и сожгла их неподалеку от мельницы. А потом я легла на месте костра, таков старинный обычай. Больше всего я любила его рубашки, особенно шерстяные. Помнишь их? Заплата на заплате. Впервые оказавшись в горах, он научился штопать локти рубашек иголкой, сделанной из березовой веточки, которую заострял на конце. Он шутил, что не рад моему намерению сжечь его рубашки, но недолго. Потом я вернулась через несколько дней и искала на опаленной земле пуговицы и металлическую пряжку от его куртки, но огонь все уничтожил.
Есть старая цыганская песня, в которой говорится, что мы делим наши сердца с людьми и чем дальше идем, тем меньше остается нам самим. В конце концов остается так мало, что уже невозможно ходить. И все это называется странствием, а также смертью; и поскольку она приходит ко всем нам, нет ничего естественнее.
В Братиславе я сожгла свои стихи. Спустилась по качавшейся лестнице в яркий свет дня с вещами другого человека — его ботинками, рубашками, радиоприемником, часами. Я ничего не видела в своем будущем. Мне было двадцать девять лет, и я была отверженной. Столько жизни отобрали у меня, и все же я не хотела умирать.
Я пошла к домам-башням, хотела посмотреть на них в последний раз. Восемь теней, густых и темных, падали от восьми зданий. В тенях играли дети. Кибитки со снятыми колесами кренились в разные стороны. Я отвернулась и пошла на юг через словацкие деревушки. Это были худшие дни моей жизни, и часто по утрам, просыпаясь в лесу, я удивлялась — не столько тому, что ночью спала, сколько тому, что еще жива.
Я повернула на запад и перешла границу Венгрии, утешаясь лишь мыслью, что теперь меня не будет преследовать Свон. Он не мог пересекать границу. Та часть моей жизни осталась позади, и я шла дальше, чтобы забыть ее. Шел густой снег, дул ветер. Я закуталась в одеяло. Когда я проходила через деревни, их жители глазели на меня. Конечно, вид у меня был жалкий, кожа да кости да рванина. Добрые люди выносили мне хлеб, другие спрашивали, далеко ли кибитки. Я выбирала точку вдалеке — дерево, утес, столб — и шла к ней сквозь снегопад. На заброшенной ферме я наполнила карманы костной мукой, взятой из корыта, а потом варила и, не задумываясь, ела прилипавший к нёбу клей. Я питалась кормом для скотины. Одну ночь спала в большой пещере с наростами на сводах и складками камня, похожими на занавеси. Солдаты вырезали в камне слова, имена и даты, и я подумала, что и сюда добралась война. В углу пещеры я нашла старую консервную банку тушенки, открыла ее камнем, ела пальцами. Сказать по правде, тогда я уже не считала себя цыганкой. Меня звали цыганкой, но я ею не была. Не считала я себя и книгочеем, певицей или поэтессой. Разве что первобытным человеком.
Я несколько дней передвигалась, пригибаясь к земле, потом вошла в озеро. Тут-то и началась — если считать это началом — моя жизнь на Западе.
До сих пор чувствую холод воды, доходившей мне до груди. Всю ночь я шла через это озеро, в ледяной воде горели ноги. Камней на дне не было, но шла я все равно с трудом, подняв руки, и думала, как хорошо, что я высока ростом. Какое-то водяное растение прицепилось к моей ноге, я попыталась стряхнуть его, но потеряла равновесие. Вымокла вся с ног до головы. Я не ожидала встретить колючую проволоку на австрийской стороне, но, когда подошла к другому берегу, мне пришлось переступать через нее. Сначала показалось, что это снова водяное растение, но потом я почувствовала, как шип вспарывает мне кожу. Изрезанные ноги кровоточили, но я твердила себе, что создана не из плоти и крови, а из силы, которая и выведет меня на берег. Я шла не останавливаясь, с тех пор как сгустились сумерки, в полной тишине. В темноте вдоль границы передвигались лучи прожекторов.
Я не сомневалась, что, когда рассветет, окажусь хорошо заметной на фоне светлой воды и русские солдаты меня застрелят.
Я сглупила, взяв с собой хлеб, он всплыл из кармана. Осталось совсем чуть-чуть. Какие глупости, дочка, приходят в голову в такие мгновения, в худшие мгновения! Я думала, что мне надо идти ради стакана молока, надежда выпить его заставляла меня двигать ногами. Наверное, это потому, что в детстве, когда мы кочевали с табором, нам говорили, что молоко очищает внутренности. Я, спотыкаясь и плохо соображая, брела по грудь в воде. Казалось, что берег удаляется. Я предположила, что кругами хожу по одному месту, как в кошмарном сне, и песчаное дно принимает мои шаги один за другим. Но наконец мне удалось намотать одеяло на руки, и я перебралась через последнюю полосу колючей проволоки под водой, а затем вышла на берег и упала. Конические лучи прожекторов обшаривали камыши, деревья казались призрачными.
Низко пригнувшись, я отошла подальше от воды, в яме легла на спину на влажную землю и посмотрела на ноги, искромсанные колючей проволокой. Собрала в кармане остатки хлеба, положила в рот и попыталась почувствовать вкус. Постепенно светлело. Передо мной была болотистая местность и, конечно, деревянные наблюдательные вышки. Я хотела поступить так же, как по другую сторону границы: дождаться наступления темноты и затем идти, пока не наткнусь на доброго человека или ферму.
В детстве мне говорили, что смерть всегда приходит с уханьем совы. Я никогда не придавала большого значения старым суевериям, чонорройа, — по дороге к Прешову дедушка убедил меня, что в них мало проку. Но, как ни странно, похоже, что в то хмурое утро жизнь во мне поддерживала мысль, что я слышала уханье совы. Оно потрясло меня и заставило очнуться — я хотела увидеть, в каком облике явится смерть. Она, как оказалось, приветствовала меня птичьим пением, стрекотанием кузнечиков, гудением пчел. Что-то зашумело рядом в траве, я подняла глаза и увидела взлетевшего фазана. Как хорошо бы было поймать его голыми руками, свернуть шею и поесть сырого мяса. Я поискала на земле что-нибудь съестное, хотя бы земляного червя, самую нечистую пишу, но ничего не нашла. Я сидела, дрожа от холода. Зажигалку Петра я еще раньше зашила в карман платья. Сейчас я разорвала шов и попыталась разжечь огонь, чтобы согреть руки. Зажигалка не работала.
Я проснулась от яркого света. На меня падала тень, сверху смотрело белое лицо. До сих пор не знаю, как меня нашли, хотя мне говорили, что обнаружили меня полуживую в болоте и поначалу обращались со мной, будто с покойницей.
Медсестра посветила фонариком мне в глаза, потом взяла меня за нижнюю челюсть и по-немецки сказала:
— Не двигайся! — толкнула мою голову на подушку и, отвернувшись, пожаловалась: — Укусила меня, дикарка!
Я действительно укусила ее, причем основательно, и укусила бы снова, дочка, если бы пришлось. Я не сомневалась, что меня арестуют, изобьют, отправят обратно в Чехословакию. У моей кровати собрались три медсестры, я чувствовала резкий запах их духов. Одна держала меня за щеки, другая коричневой палочкой прижимала мне язык, третья светила фонариком в зев. Толстая записывала что-то, держа в руках сумку-планшет. Самая высокая достала из кармана маленькую баночку с чем-то, и они передавали ее друг другу, вдыхали пары. Меня всегда поражало, что гадже не имеют обоняния, удивляли запахи их тел, их мыла и пищи. Казалось странным, что они видят недостатки в других, а у себя не замечают. Медсестры понюхали баночку, покашляли и пожаловались, что от меня воняет. Одна из них позвонила куда-то и попросила помощи. Потом они сказали: «Отведем ее в душ».