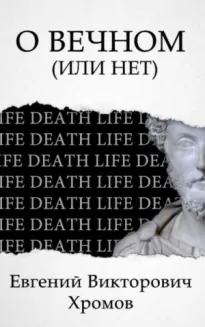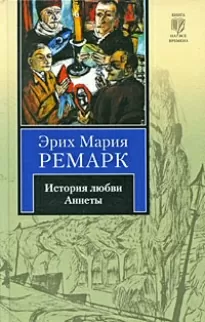Гьяк

- Автор: Димосфенис Папамаркос
- Жанр: Современная проза / Историческая проза
Читать книгу "Гьяк"
Я как догнал его, говорю, эй, Фимьос, это че ты там такое устроил-то? Че, проблем на свою голову ищешь? А он мне и объясняет, говорит, что услышал, как турок трепался, что, пока наливал нам узо, он, говорит, в стаканы нам плюнет, потому что мы греки сраные. Я не мог ему ничего и сказать-то в ответ. Даже, признаюсь, я еще и восхищался им, потому как и мозги у него были, раз он это все понял, да он сразу и схватил этого турка и расправился с ним, как надо, с псом поганым. Я только потрепал его по шее, вот так, сзади, и сказал: ну, тогда ты правильно все сделал, Фимьос. А затем уж, поскольку настроение у нас подпортилось, пошли мы в греческую таверну, куда много кто из солдат тогда ходил, там и посидели, поели, выпили и до того напились, что на четвереньках в лагерь возвращаться пришлось. А о буфетчике больше и словом не обмолвились.
Мы пока в Смирне сидели, больше уж не смогли вот так на пару вместе в город выйти. Но дружили мы, конечно, крепко. Не разлей вода. И в части, и на передовой один за другого стояли. Я оборачивался – рядом Фимьос, он оборачивался – рядом я. Видишь ли, там со временем дела-то наши все хуже становились, так что были мы все на тропе войны, так сказать. То сюда нас гонят, чтобы четов бить, то туда, вот в это село, которое им помогает, пойдите, мол, перебейте их. Вот такие дела, пока час не пришел и не взяли нас почти всех целиком и не отправили вглубь, потому как началось наступление. Мы передохнули, когда взяли Филадельфию. И повезло нам, так что ни у меня, ни у Фимьоса даже царапины не было.
И вот как, значится. Там дали нам небольшую передышку. Ну, короче, снова нас в патрули ставили и все такое, ну вот так, то есть мы не шли никуда и давали нам время от времени какую увольнительную. Вот так случилось, что как-то утром снова вышли мы вместе с Фимьосом. Он мне сказал, что это он обо всем договорился, но я врать не буду, могло и случайно так совпасть.
Вот, значится, Филадельфия, она, конечно, красивая, но что и говорить, такой красоты, как в Смирне, я нигде больше не видывал. Я это и Фимьосу тогда сказал, а он мне и отвечает: хватит ныть, больно много ты всего повидал, салага, чтоб так говорить-то. Я тебя в такие места отведу, у тебя челюсть отвиснет. Я спросил тогда: куда ж мы пойдем-то. Погоди, все увидишь. И действительно, пошел он, шельмец, будто у себя в деревне был. Вот здесь узо выпить, вот здесь поесть, вот тут сладеньким полакомиться. Я так круто никогда в жизни и не гулял. Я даже сказал ему об этом, а он поворачивается и говорит мне: подожди, это еще не все. А когда мы и сладости доели, и кальян докурили, встает он и говорит: давай-ка ты за это заплати, я тебя в следующем месте угощу, встает и выходит, у двери меня ждет. А как только я собрался тоже выйти, он схватил меня рукой за талию, склонился и говорит мне на ухо: а вот теперь самое лучшее. А затем снова вперед пошел и повел меня по каким-то улочкам, по каким-то переулкам, так что голова шла кругом, так там все запутано было. Как только этот черт про все знал? Прошли мы немного, остановился он у низенькой двери, вот тут, говорит. Глянул я на дом, у него будто купол такой был, весь в дырочках таких кругленьких со стеклышками сверху, вот, ну, как эти, иллюминаторы, как говорится, точь-в-точь, только на куполе. Это что тут такое? – спрашиваю. Ну-ка заходь, говорит он мне и толкает внутрь. Там внутри у них была лавка, а за ней какие-то полки, а на них полотенца свернутые лежат. Сказал он что-то турку, который там стоял, но я не понял ничего, только то, что он ему на пальцах «два» показал. Тот головой кивнул, дал Фимьосу два полотенца и деньги взял. Раздевайся, говорит мне Фимьос, раздевайся, и только вот не надо мне тут всякие «зачем» и «почему». Увидишь. Пошли мы в каморку там рядом, начали раздеваться, Фимьос мне и говорит, ты, мол, парень хоть куда, вон какой крепкий. Я застеснялся, да ладно тебе, говорю, Фимьос, но с тобой мне ни вот на столечко не сравняться. Он как заржет, ну-ка, раздевайся, говорит мне, а вокруг срама своего полотенце повяжи. Эти собаки недостойны на это смотреть. Так и сделали, разделись мы, сложили одежду нашу в узелок, отнесли ее турку, он все на полочку положил. Сюда, говорит мне Фимьос и открывает дверь, заходим мы в комнату, а там жарко так и мокро так, просто слов нет. Хамам, говорит он мне. Баня турецкая. Смотри, как я буду делать. Были там в комнате скамейки по кругу, все из мрамора, а посередке такой, типа как стол большой, мраморный, круглый. А рядом с каждой скамейкой был кран, внизу как бы корыто, тоже из мрамора выдолблено. А эти вот, чего эти-то тут стоят, как истуканы, говорю я ему, потому как были там еще два мужика, голых, как мы. Мне показалось, что турки это, но стояли они вот так прямо, будто нас ждали. Улыбнулся мне Фимьос, да я ж сказал тебе, мол, заткнись уже, щас, мол, увидишь, говорит мне. А сам сел на скамью, зачерпнул медным тазиком воды из лохани и давай поливать себя. Я тоже сел рядом, гляжу на него. Меня пот пробил, потому как мрамор тот аж горел весь. Глядит он, видит, что я рядом сел, подошел ко мне и из своего тазика полил меня водой, а потом рукой растер по груди, по спине, по голове, так, как мать делала, когда меня купала. Полей-ка на себя, говорит мне, а то сознание от жары потеряешь, ежели не намокнешь. Сделал я, как он мне велел, и хоп! тело мое все обмякло, совсем другое дело стало. А теперь ложись, говорит мне, так, чтоб спина на мрамор легла. И воду лей. Так я и сделал, и сразу же вся плоть моя размякла, о-хо-хо! Что уж и говорить-то! Я чуть было не задремал там, так расслабился. Сидели мы так долго там, а потом Фимьос что-то по-турецки сказал, а мне махнул, чтобы мы к круглому столу пошли. Легли мы с ним там, а вокруг турки ходят с какими-то тряпками, которые они так и сяк выкручивают, а потом надувают, как пузырь, намыливают ароматным мылом, а потом начинают нас ими тереть. То по спине, то по груди, то по ногам, ну, как барашка натирают, чтоб в печке запечь. Как закончили они, обмыли нас водой из тазиков, а потом хлопают нас, чтобы мы, значит, на живот перевернулись. И вот, мы такие лежим, вымытые, чистенькие, а они как начали нас везде тереть. И шею, и руки, и бока, ну, все, короче. А потом опять-таки на спину мы перевернулись, а они снова нас тереть. И у меня глаза закрыты были, мне это приятно было, и слышу я, как Фимьос опять что-то на турецком говорит своему турку. А он, как был там, снизу, тер его бедра, отодвигает краешек полотенца и начинает ему хер тереть. Я глаза выкатил, но ни звука не произнес. А Фимьос повернулся ко мне и только улыбается. И вот так он смотрел на меня, смотрел, а потом опять сказал что-то, и турок наклонился и давай ему сосать хер. Я вообще растерялся. Не знал ни что сказать, ни что сделать. Так-то это за плохое дело считали, когда мужик с мужиком, но вот так вот, сейчас, с Фимьосом, мне как будто тоже нравилось. Я даже описать тебе не могу, почему так, ну, видишь ли, красивый он был, как статуя мраморная, и лежал он на мраморе, так что мне казалось, все это ему подходит. Так я и глядел – то на него, то на турка, а когда он протянул свою руку и взял мою, я ваще не шевельнулся, только сжал ее в ответ и смотрел ему в глаза, как будто хотел обнять его.
А как вышли из хамама, мы все хохотали. Вернулись в лагерь и заснули, счастливые и отдохнувшие. Я, прежде чем уснуть, сказал ему: с тобой всегда хорошо. А он наклонился и поцеловал меня в щеку. Я тебя еще раз туда свожу, сказал. Но этому не суждено было случиться, потому как начались всякие беспорядки. Мы заставили турок бежать, но эти собаки тоже порядочные сволочи были. Везде, где мы на них натыкались, они с нами бились, а потом, снова-здорово, давай драпать от нас. Как дети малые, когда камнями в тебя кидаются, а потом ты гонишься за ними, чтоб поймать, а они бегут и дома прячутся. Да, вот так вот! Ну, чего уж там, то одно, то другое, а в марте двадцать первого мы прижали их в Афион Карахисаре. В том первом бою турки драпать начали уже после первых же двух-трех выстрелов, так сказать, но и я там тяжелое ранение получил, потому как в пяти метрах от меня бомба рванула и осколки мне вот сюда вот слева попали, прямо в лицо. Все там в мясо разворотило. Где там глаз, где зубы, полчелюсти моей – в крошки, я их, как жареный горох, выплевывал. Да, стеклянный глаз у меня с тех самых пор. Что уж там говорить, ты ж видишь, какой я теперь. Ну, и то хорошо, что в живых остался, потому как я тогда слышал, как врачи спрашивали, кто, мол, меня знает, чтобы взял на себя обязательство отправить мои вещи домой. Вот так худо было. А как увидели, что я выкарабкался за эти первые шесть-семь дней, так и отправили меня потом в госпиталь военный в Смирну, а затем уж, как я оклемался немного, меня демобилизовали, посадили на корабль до Пирея, а оттуда я и сюда добрался, прямо до деревни. Непригоден к военной службе, так в бумагах мне написали.
Ну а мне вот, я так тебе скажу, ты не поверишь даже, мне совсем никакой радости не было, что я вернулся. Больно мне было от того, что уехал я из Малой Азии, потому как Фимьос там остался. И боялся-то я страшно, как бы не убили его, и ревность меня такая брала, что он там с другими был и мог еще с кем подружиться. Он мне сказал, что правда, то правда, тогда еще, когда я чуть душу богу не отдал, что ежели я поправлюсь, так мы опять будем вместе, не разлей вода, только потерпеть надо, мол, и дождаться его в деревне, когда я, дай бог, вернусь туда. Он с улыбкой все это говорил, и из-за этих-то его слов я и держался только, крепился как мог, вот и выжил. Но в тот день, когда я должен был в Смирну уезжать, он подсел к моей кровати и начал плакать. Плакал, как ребенок, потому как снедало его, мол, что это он был виноват, что меня ранили. Мне тогда уже показалось, что плач этот – плохой знак, но я не мог говорить-то, потому как рот у меня был разворочен, и хотел я его поцеловать, но и этого я не мог. Я только погладил его вот так вот по лицу и по глазам и показал ему рукой, что, мол, мы встретимся еще.
Так что я тебе говорил-то? А, да. Я, значится, вернулся в деревню наперед их всех. Я говорил тебе уже, что рад я тому не был. Поначалу с трудом из дома выходил. Такие боли были, что и сказать нельзя. Да и потом, такая уж уродливая рожа у меня была, что мне казалось, будто все глядели на меня и тошно им становилось. Говорить хорошенько я опять-таки не мог, потому как не привык я еще тогда, что зубов у меня слева не было. Мука страшная. Думал я все время о Фимьосе, и то и дело заходил я к нему домой и все спрашивал, не прислал ли он какую весточку, и ежели, бывало, присылал, хорошо, значит, было, ежели нет – я готов был прям там упасть и помереть.
Так шли месяцы, шло время, донеслись и до нас вести про отступление и про разгром. Как только я о том узнал, побежал прямиком домой к Фимьосу, чтоб разузнать, не писал ли он, что он возвращается и все такое. Нет ничего, говорит мне мать его – и как начнем мы рыдать оба. Я ни спать, ни есть не мог. И так все дни напролет. Начали возвращаться первые солдаты, смотрю я на них, расспрашиваю, Фимьоса нет нигде. Один тут, из Настаса, говорит мне однажды, да забудь ты уже про Фимьоса спрашивать, пиши пропало. После такого-то сражения мы его и не видели больше. Ох, эх! лучше бы нож в меня тогда воткнули. Пошел я прямиком в монастырь к святому Георгию, зажег свечу и на колени упал перед иконой, а про себя все прошу, все молюсь, бью себя в грудь и говорю, сделай так, чтоб он невредимым вернулся, и я обет тебе даю, каждый день приходить буду и за всем тут следить. За деревьями, за двором, за садом. Только бы Фимьос вернулся. А с другой стороны, думал я, что это меня, может, Бог так наказал. То есть вот это мое ранение и разлука с Фимьосом, потому как грех это, чтоб двое мужчин вот так друг друга любили. Но это опять же как посмотреть, вся любовь ведь от Бога, он же не говорил, кого надо любить, а кого нет. Всех надо, говорил. И даже врагов. Вот как, значит. Каждый день я начинал с того, что шел в монастырь. А монахам я сказал, что, мол, с того дня, как ранили меня, дал я обет такой, чтобы спастись, так что они меня и пускали, потому как святой и рассердиться может, ежели не получит обещанного.