Позабудем свои неудачи (Рассказы и повести)
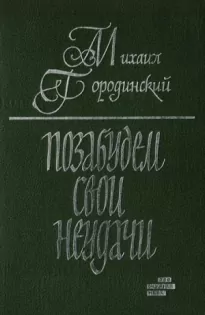
- Автор: Михаил Городинский
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 1994
Читать книгу "Позабудем свои неудачи (Рассказы и повести)"
ЗРИТЕЛЬ, или ЗИМНИЙ СТРАХ ДЕВЯНОСТОГО ГОДА
Советовали ему добрые люди унять гордыню, пить покрепче. Пить — что уж тут объяснять, — плюнуть, пока еще не поздно, на губительную свою оглядку, робость. Дозы фиксировал, аптекарь, ладонью стакан покрывал, точно все еще берег себя для чего-то.
В самом деле, бедняга, пил он как будто делая кому-то уступку, опасаясь достичь именно того результата, ради которого лишь и стоит в России этим заниматься. Бред: стоять часами, рисковать быть раздавленным (в одной из очередей, точнее, в ходе одного из паломничеств, когда, расплющенный, продавленный, он уже прощался с двумя или тремя дорогими лицами, оставшимися там, в тылу, за капризом «выпить вечерком стаканчик сухаря», за сдавившей до натурального последнего прощания толпой, за ярыжкой, чей новгородский профиль уже навсегда впечатывался в его спину, кого-то из передних слоев задавили до смерти, задержав продажу вина минут на сорок), чтобы потом ввечеру, уже отхлебнув, сжиматься от грузинского уксуса (месть метрополии?), сострадая своему небу, глотке, печенке, судьбе, и, вместо еще одного шанса начать прорыв, прорваться, зреть себя, мутный стакан, очередную, сорок пятую по счету, свою весну, новую свою жажду.
Кто бы мог подумать, что такое случится с ним, человеком совсем не глупым, рациональным, пожалуй, с чувством юмора и достаточным скепсисом?
Поначалу он и не принимал происходящего слишком всерьез. Тем более, не надеялся, будто нечто может измениться в его жизни. Ведь не примут же они закон о его рождении заново! И все же не скрывал, — от себя самого, по крайней мере, — отрадного, прежде неведомого чувства, какого-то, что ли, совершенно неожиданного и весьма приятного недоумения от вообще положительного чувства, ориентированного туда, в сторону, так сказать, общественно-политическую. Все с этим связанное было похоронено на склоне пионерских лет с коротким прощальным «суки!».
Но вот старенький его телевизор «Рекорд» из пыльного ящика, где обитали кастраты, маразматики-богдыханы и прогнозы погоды, стал превращаться в существо иного рода. Пошли вести, вести впитывались в кровь, новым хмелем растекались.
Домашняя его жизнь переместилась к телевизору. Прежде он ел на кухне, теперь же со сковородой, с куском, чашкой спешил сюда, к круглому своему столу, откуда открывалась панорама зала, президиума, счетной комиссии, трибунки с собственно оратором. Очень кстати подковылял во дворе инвалид-ветеран, предложивший цветной телевизор, — имел литер на покупку. По неведению ли, со страху или из-за редкостной порядочности спросил ветеран всего двести рублей сверху да беломоринку, и вот после небольшой перестановки мебели зал, президиум, оратора выплескивал, к его любопытству, «Рекорд», уже цветной, с полу-импортной к тому же трубкой.
Как-то, жадно глядя поверх бульона на развернувшиеся дебаты по регламенту, он сперва вспомнил рассказ Зощенко «Обезьяний язык», а потом школьный римский лозунг насчет «хлеба и зрелищ». Отметил с внутренней усмешкой, что, счастливчик окончательный, поглощает вот хлеб и зрелища одновременно, о чем человечество всегда и мечтало.
Тут не совсем он был прав, не обыкновенное зрелище он поглощал. На державных подмостках происходило сходное с тем, что когда-то происходило с ним, нынче зрителем, замершим у экрана. Разве не он, лет двадцать-двадцать пять тому, сомкнув губы, орал равнодушному злому миру что-то подобное? Тогда это стало причиной длинной многоступенчатой агонии, мыслей о самоубийстве— несколько лет он таскал их для согрева, покуда не рассосались вместе с прочими, столь же неуклюжими грезами о наказанных негодяях, теплых морях, героических битвах с роскошными блондинками, кроткими на рассвете от счастья и бессилия.
«Вероятно, это катарсис», — определил он свое состояние во время очередного телерепортажа, доверившись слову, смысл которого не совсем и помнил. В конце концов, не в слове дело, какая разница, каким именем назвать слезы — «благодарные», «поминальные», «невротические», — слезы, что выкатились из его глаз, когда с трибуны он уже почти слово в слово услыхал свою собственную мысль! Выступавший подслушал ее тогда, в ту мятежную пору у его губ, интонацию тоже. Что-то свершалось. . Казалось, взорвись сейчас его «Рекорд» (это случалось, в газетах писали, были жертвы), угоди осколок в него, рань смертельно, помрет он уже насыщенный, отмщенный, уйдет с героическим спокойствием доказавшего наконец, что «А» действительно равняется «А».
В один из драгоценнейших тех мигов телекамера обернулась в зал, и он, — если не спутал, — увидал знакомое лицо. Слегка бульдожье, с бородкой, равно подходящей члену Государственной Думы и джазовому лабуху, лицо Колупаева. С ним некогда приятельствовали, и глаз не готов был видеть Колупаева посреди новоимперского плюша, с депутатским еще значком, все возвращал как бы на место: в чью-то не то мастерскую, не то котельную, где, разумеется, витийствовал Колупаев вместе со всеми, хлебал всеобщую бормотень, в свою очередь отводился вздремнуть на топчанчик. Между прочим, была и у него попытка суицида, правда, неудачная или, наоборот, удачная, — кому же это ведомо; потом надолго Колупаев исчез. Как исчез? Глухо, «как в воду канул», — буквально по звуку. Вспоминали о нем тоже глухо, шепотом говорили, что вот, мол, исчез Колупаев, честняга, с концами, что творится, а мы, бляха, сидим и пьем, будто ничего не случилось, исчез человек, а мы дальше живем. И пили уже с новым правом, покаявшись.
Так вот, оказывается, где Колупаев вынырнул, если, конечно, он не спутал, показали-то полсекунды. Но и это, и все вообще было удивительно, невероятно, точно с похмела, с остервенения пустились в юродство сами Времена. И не слишком бы он удивился, пожалуй, ощутил бы даже свершившуюся справедливость, если в следующий заход показали бы они и его самого, ерзающего между генералом и хлопкоробкой.
На ту весну — весну его наивности чудной, когда выяснилось, что под личиной усталости, немолодости, естественного цинизма прячется подросток, пришелся резкий скачок его потенции. Понятно, причина могла быть и в самой весне (хотя весны предыдущие не слишком отличались в этом смысле от зим или же осеней), и в том обстоятельстве, что весна эта угодила как раз в серединку того замеченного еще греками временного спектра, когда творческие способности личности активизируются, как бы перед последним подвигом. Верно, свою роль сыграло и местоположение его тахты: он немного подвинул ее к окну и теперь, при правильном выборе атакующей позиции, мог видеть зал, президиум, трибунку, «не размыкая объятий», — если выражаться несколько по старинке. Остается лишь гадать, почему именно так, а не иначе действовали на его половую функцию обсуждение повестки дня, дебаты по регламенту, голос председательствующего, его окрики, звук колокольчика, призывающий закругляться, объявление перерыва и т. д., и т. п. Его, например, очень возбуждала неграмотность ораторов. («Редкий депутат долетит до середины предложения без грамматической ошибки».) Он негодовал, не в силах почему-то представить, как неграмотность может сочетаться с политической мудростью, и тахта, и женщина негодовали с ним заодно. Правильная же речь вызывала у него настоящее умиление, надежду на возрождение страны. Способного говорить без грамматических ошибок или хотя бы с одной, ну, двумя в предложении он тотчас зачислял в демократы. Временами ему казалось, что разделение, противостояние обусловлено совсем не разными интересами, мнениями, убеждениями, степенью знания и невежества, даже не количеством мозговых извилин, но лишь количеством грамматических ошибок в речах и что за право их делать и ведется борьба. Он чуял, какую бдительную настороженность рождает в зале грамотная городская речь. Речь же, обращенная к совести… тут флюиды гневного депутатского нетерпения и вовсе раздирали кинескоп его «Рекорда», сонм гороховых спектров, зловещих ангелов, вездесущих легкокрылых палачей наполнял комнату. Однажды, услыхав о подтасовке результатов голосования, о кознях секретариата, он вдруг замер, сполз с тахты и в глубокой скорби прошлепал на кухню курить, совершенно позабыв об оставленной на ложе женщине, странном ее положении, всяческих вообще приличиях. Казалось, только что рухнуло все, ради чего имело смысл жить, дышать, продолжать известные движения. Скоро она его кликнула — к трибунке двигался новобылинный богатырь, обреченный на испытания огнем, мечом, испанским вертолетом, запорожцем отважного пенсионера. Он тогда опрометью бросился в комнату и через полминуты, воскресший, вперившись в экран, с багровой напряженной шеей, вскинутой головой, продолжал мужскую работу с яростью прямо-таки сказочной. Окажись тут свидетель, подумал бы, что таким вот магическим образом осуществляют мужчина и женщина и поддержку демократов, и сводят счеты с силами реакции. В те весенние вечера по своей летописи он действительно совершал подвиги, и когда богатырю аплодировали, мог принимать поздравления и на свой счет.
Чуткий, азартный зритель, люто изголодавшийся по событийности, жаждущий знать, что же будет дальше! Ведь еще совсем недавно его Завтра с любого Вчера просматривалось насквозь вместе с известными наперечет случайностями, которые могли угодить в железобетонный каркас. И удивимся еще раз: вот в прозрачной глыбе льда седеющий, повыше среднего роста, приятной наружности мужчина с тем славным взглядом, который будто и явлен миру лишь для тягчайшего недоумения: «ну, если. . так почему?..» И вот он же при другой температуре — чувствительный, обожженный и обжигающий, грозящий кому-то кулаком, готовый одним ударом навсегда рассчитаться с топочущим на святого Хамом и щадящий вовсе не его, а свой кулак и стекло телеэкрана. Этой энергичной позой и закончить бы маленькую повесть, уцепившись за уникальную возможность счастливого конца.
Но и поза, увы, изменилась слишком скоро. Словно само действие, заметив зрителя, зафиксировав явное его оживление, включенность, тоже как бы обрело новую цель или вообще цель, которой раньше и не имело вовсе. Во всяком случае, после весьма недолгого периода, описанного выше, и после совсем короткого, переходного, — весь слух, внимание, надежда, недоумение, тогда он еще пытался уразуметь, куда же клонятся чаши весов, и чуть позже, есть ли, были ли вообще чаши, весы, — ему стало казаться, что все делается именно так, именно для него. (Заметим: не «ничего не делается», как судачили вокруг, не «делается медленно», но именно «делается», причем с целью, ставшей вдруг ему понятной.)
Однажды утром он просыпается с мыслью, что если бы не этот новый страх, повадившийся к нему, то и не было бы у них резона все это вообще затевать. То есть будь он равнодушен, бесчувствен, то и не обнаружили бы они его. Или, ткнувшись случайно, не проявили бы к нему никакого интереса. И, — здесь мы можем уже сочувственно развести руками, читая остаток как обыкновенную историю болезни, — что подлинной целью ими затеянного было выудить из него теперь не слово, не вопль (они знают, этого не осталось, сколько ни провоцируй), так шевеление сердца, чтобы по этому последнему позывному его обнаружить, засечь. Иначе он отказывается понимать, почему все развивается именно так, не иначе.





