Позабудем свои неудачи (Рассказы и повести)
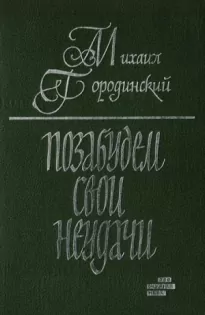
- Автор: Михаил Городинский
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 1994
Читать книгу "Позабудем свои неудачи (Рассказы и повести)"
МАРИЯ (опыт воспоминания]
Древние не додумались до роскоши очковых линз, и окулярами моей тетушки Новое время яростно берет реванш: тут минус восемь, девять, десять, наконец двенадцать, четырнадцать. Это позволяет ей отчетливо видеть мир, а тому, в свою очередь, также отчетливо видеть ее глаза — небольшие, раз и навсегда вытолкнутые каким-то удивлением вперед. Веки красные, натруженные, влажные. Цвет зрачка темный, глубокий.
Зрение ухудшалось. Разговоры об очках, о новых очках более сильных, о второй паре очков — ее надо заказать, ее все еще надо заказать, очки заказаны! очки надо забрать из мастерской, никак не забрать очки; потом о новых очках и о новой второй паре. Дубликат очков был ее главным завоеванием, кажется, за другими дарами Мария к цивилизации не обращалась.
Однажды она забыла вторую пару очков дома. Мы живем на даче у залива, выходной, я гоню на футбольную поляну. Мария, приехав из города, идет к нам со станции, ее взгляд не переходит черты, которую страх оступиться чертит перед собой. Она вскидывает на звук глаза. Наклонив велосипед, не перелезая для экономии времени через раму, я подставляю себя тетушке. Всегда целует в губы, целует с упоением, присваивает целиком, пресекая попытки увернуться, сачконуть, подставить щеку. В то июльское утро она целует дольше и крепче обычного, не желая оторваться от моей шеи, груди, потерять опору, и нынче, вспоминая, догадываюсь, что причиной той особенной страсти были вторые, очки, которые она забыла дома.
Она часто оставалась у нас ночевать, ей стелили на веранде, она спала на спине, солдатиком, натянув к подбородку одеяло, но в ту субботу заторопилась домой и, несмотря на уговоры матери и раздражение отца, — почему-то он усмотрел здесь каприз и упрямство, не разрешая себе понять, что эти-то крохи и составляли ее свободу, — засветло пошла на электричку.
Мария закончила два института, оба с отличием. Она была обязана кончить их с отличием, четверка в одном из дипломов не знала бы покоя, жаждала бы себя уничтожить, смыть досаду, ошибку.
Заплетаю ей косички, два банта, протаскиваю ее в коричневое школьное платье с плиссированной юбкой, сажаю за первую парту. Забываю сложить аккуратным отличницким уголком ее руки, это она делает сама.
Еще только разворачивается вопрос, а ее рука остреньким парусом уже стоит над партой.
Я вижу этот класс впервые. Я тяну предмет, название которого время от времени забываю. Еще не рассеялся конопатый туман задних парт, но уже ясно, что тонконосая девочка с характерными подглазьями, поймавшая мой взгляд и робко, но с цепким знанием, как это для нее необходимо, предлагающая свой, будет иметь диплом с отличием. Возможно, два диплома. Закон моей профессии запрещает смотреть на девочку дольше, чем на других детей, я вспоминаю об этом формальном праве и чувствую облегчение. Листаю классный журнал, нахожу последнюю страницу. Вот. Мэре. Ее зовут Мэре. Где путешествовали ее родители, выбирая имя? Что видели перед собой? Какие кущи? Родители, чьей Торой и Талмудом были книга «Как закалялась сталь» и роман о раскулачивании на Дону? Они полагали, что их девочка пойдет в хедер, там ее примут в октябрята, потом в пионеры? Они знают, что такое хедер? Они знают, что туда ходили только мальчики? Им ведомы еще какие-нибудь слова на этом языке, кроме замечательного имени МЭРЕ? Почему не потрудились выглянуть в форточку, крикнуть приглянувшееся имя и послушать, как вольно вибрирует над микрорайоном это оборотное «э»? Почему не сделали этого в школьном коридоре? У пивного ларька? Какие ангелы вели их в момент наречения? Кто сказал, что евреи умны? Легкомысленны до… Кажется, прошло достаточно времени, и я могу снова взглянуть на нее. Мой ожог, моя усталость, мой сон — это ты. . Если бы ПЕЧАЛЬ открыла лицо, там были бы твои черты, твои подглазья. Она сидит, все так же сложив перед собой руки. Руки в морщинах. На корешках волос желтизна. Под тонкой кожей щек красная сеточка сосудов — мы очень близко, это не спутать с румянцем. Сильные очки. Глаза за ними видны так отчетливо, будто очки не на ней, а на мне. Взгляд… Неужели он до сих пор хранит то самое девочкино знание и все еще предлагает себя в залог? Мэре? Действительно, Мэре? Господи, да ведь девочка родилась в тысяча девятьсот восемнадцатом году.
До меня была ее молодость. Неизвестно, как она жила тогда, чем грезила, к чему готовилась. Наверно, что-то рассказывала, не помню. Когда она могла говорить об этом, я крал слово «судьба» — такую подмогу в классных сочинениях. Когда слово стало цыганничать, манить, вроде бы наполняться кровью и смыслом, претендовать на какой-то особенный ранг, когда попросту нашлось бы время и терпение выслушать Марию, заодно доставив и ей незамысловатую радость, о которой мечтает любой, тетушки уже не было. Как преодолеть безмолвие утаенного факта. Ни писем ни свидетелей, почти ни одной косточки ею можно было бы воспользоваться, чтобы предположить Марию молодую, как предполагают мамонтов и историю.
Фото в старом альбоме. Она сидит в шезлонге, подавшись к объективу, за ней — забор, сбоку — столб с крюком для гамака. Светлое клетчатое платье с плечами, кокеткой. Волосы пострижены и уложены по послевоенной моде, моде целомудрия и мечты, нового начала. Она без очков, обнаженные глаза слегка прищурены, устремлены вверх. Взгляд близорукого пытается обрести устойчивость, стать; позируя, ее взгляд явно перебарщивает, слишком хочет наконец стать, но миг суров, снисхождение ему неведомо. Результат: еще пущая робость, что-то стародавнее, девичье, козье, и немного обидно за Марию, ведь она хороша, она прекрасна этим летним днем! Неуличной красоте недостает уверенности, она, пожалуй, ничего и не знает о себе. Такая вспомнится, приснится и никогда не подвигнет на безумство.
Стоит ли гадать, как могло быть? Чего не хватило, чтобы увлечь живым ветром остренький парус? Привести туда, где покоится «счастье в личной жизни» из пожелтевших поздравительных открыток? Упрямые иудейские заветы, которые так слепо и глубоко приняла ее душа, ее девичество, ее стыд, ее близорукость, не дали здесь плода. Не разбудили чрево.
Какое-то время наша Маня «жила с мужчиной». Я живу с папой, мамой, сестрами, так было всегда, ну а Маня с сентября живет с мужчиной. Это новое ее состояние или положение казалось естественным, вернее, не казалось ничем, в восемь лет преступно думать о тетушках. Чуял разве что некоторую странную новизну: не «живет на Майорова», не «живет на зарплату», не «просто живет», но вдруг вот живет с мужчиной.
Маня настолько прилепилась к нашей семье, дому, привычкам, что ее поступок смахивал на бунт, пусть тайный бунт против нашей верности. К тому же первое, что мы узнали: он не ест острого и жирного. В этом замечании, простодушно брошенном Маней, поглупевшей, заторопившейся, своей и враз чужой, был вызов, деталь вопила, требуя внимания к неведомой особе. Выскочив из тетушкиной наивности, тот человек шагнул в наши стены и уже с порога, не успев представиться и поздороваться, доложил, что не ест острого и жирного, видимо, полагая, что его с нетерпением ждали и запасали соответствующие харчи. Конечно, все желали родимой тетушке счастья, острого и жирного ему бы не дали, но на мою симпатию тот мужчина мог уже не рассчитывать.
Горячечная, грешная, теперь уже не оставаясь ночевать, забегала к нам ненадолго, шепотом расспрашивала о чем-то маму и записывала услышанное в блокнотик. Отец доставал запонадобившуюся двуспальную кровать. Мать дала простыни, пододеяльник, свою синюю шерстяную кофту.
Мужчина был «аид» — сорокатрехлетняя Маня сказала об этом в первый же вечер, раньше острого и жирного, едва переступив наш порог в новом качестве. Наверно, это должно было служить оправданием и какой-то гарантией — если не мгновенного блаженства, то хотя бы спокойствия и безопасности. Показывать своего «айда» Маня не собиралась, это свидетельствовало, что счастье все же не лишило ее благоразумия: на каком она небе, тетушка пока что не знала, но зато хорошо знала моего отца. Ему надлежало привести на смотрины трезвенника, скромника, умницу, благочестивца, коммуниста — словом, его самого. Сгодился бы, пожалуй, ученый, инженер, сознательный рабочий-рационализатор. Манин же мужчина был пенсионер с больным желудком и денежками — это она подозревала или знала, во всяком случае, «мужчина он обеспеченный» — предпоследнее, что просочилось о ее любовнике. Последнее… тут Маня все же сделала главную промашку. Она вдруг выложила, что до пенсии он работал в артели «Утильсырье». Это было для отца почище итальянской мафии или ку-клукс-клана. Так безобидный поначалу «аид», соединившись с утильсырьем, образовал гремучую смесь. Отец возненавидел невидимку, хорошо, что кровать была заказана раньше. Гипотеза, будто в артели «Утильсырье» мог работать хотя бы один порядочный человек, что этот-то человек нынче и проживает с Маней, обещая скрасить ее одиночество, будущую старость, сделать жизнь свояченицы обеспеченной, не могла прийти отцу в голову.
Однажды она приехала к нам в субботу и осталась ночевать. Потом привезла мамину кофту. Все забылось так скоро, словно никто — во главе с ней самой — в эти два с половиной месяца и не верил.
Никогда не мог представить свою тетушку с мужчиной. Погрузить ее в любовную страсть. Уже на дальних подступах что-то устыжало, останавливало, оттаскивало картинку, как будто, лишь вообразив подобное, уже совершаешь тяжкий грех кровосмешения.
Проживала Мария на проспекте Майорова, а после улучшения— на улице Союза Печатников.
Меньшего пространства, где обитал бы живой человек, я не видел. Там хватало места, чтобы видеть сны и готовиться к такой жизни, где пространства не занимать. Там, на пяти с половиной квадратах, мог бы укрепляться революционер, террорист, скрываться беглый, допивать последнее ярыжка или располагаться чулан — так и случилось, когда после улучшения Мария переехала на Печатников.
На Майорова был отрывной календарь, тумбочка с кружевной салфеткой и будильником, железная кровать с тремя набалдашниками вместо четырех, две подушки горкой, полочка с книгами, стул, банки с луковицами на подоконнике и три фотографии нашей семьи — с одной из них глядел на луковицы насмешливый десятилетний племянник.
Чего Мария не могла органически, это подавать голос. Похоже, сильнее всего она боялась обнаружить себя, свое присутствие и, значит, притязание, и тут был не только страх отказа, грубости, не только страх маленького человека еще принизиться, уничтожиться, но, полагаю, преглубокая и невероятно гордая вера, будто и другие — все вообще — не должны претендовать на особое, а если делают так, то по недоразумению, которое ничего не доказывает и уж вовсе не отменяет закона. Но кто отделит малость от страха, страх от веры, веру от упрямства и прочее от прочего? Проделать такую операцию, хотя бы попытаться, могла бы сама тетушка, но, несмотря на два диплома и благоприятнейшие жилищные условия, никаких признаков подобной рефлексии тут не было и в помине. И загадок на свете куда меньше, чем отгадок, до которых так жаден лист бумаги.





