Позабудем свои неудачи (Рассказы и повести)
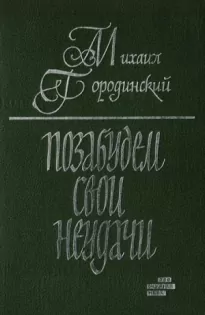
- Автор: Михаил Городинский
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 1994
Читать книгу "Позабудем свои неудачи (Рассказы и повести)"
АКЦИЯ (рассказ заспанного человека)
Впервые я увидел Николаева на субботнике по благоустройству двора, который наблюдал с балкона.
Запомнилась его спина — не узкая, не широкая, туго стиснутая ватникообразным полуперденчиком, который не кончался, а как-то у копчика пропадал. Ниже был характерный пузырь отсиженных истончившихся штанов с большой независимой заплатой из материи более темной и прочной, за пузырем и заплатой — кирзовые с неподвернутыми голенищами сапоги. Голову плотно сдавливала старенькая, с плешинами ушанка, напоминавшая тихо издохшего зверька, опущенные уши были строго подвязаны на горле, придавая незнакомому жильцу тройное сходство: с мальчиком, зэком, пилотом лихого «ястребка».
Николаев копал, стоя спиной к фасаду дома-«корабля», копал, а вернее, тюкал, да, тюкал лопаткой строго перед собой, туго, точно для кувырка или молитвы сгруппировавшись и близко составив ноги, так что лопаты видно не было, лишь мелькнул новенький белый черенок. Показалось, он и не работает вовсе, а лопату насаживает. Пятеро в это время как раз искали инструмент, хотя бы одну лопату найти хотели. Двое из них подошли к Николаеву и спросили, где он брал лопату, да еще такую хорошую, новенькую. Неизвестно, что он им ответил, во всяком случае, головой, ушанкой своей не шелохнул и тюканья не прервал, а те двое, помню, отшатнулись. Отчетливо, спасибо яркому апрельскому солнцу, прозрачному студеному воздуху, сработавшему вроде закрепителя, вижу и теперь: лица, бледности, выманенные весной авитаминозы, яркую губную помаду слева, справа по-стахановски надетую голубую косынку и зеленые резиновые сапожки, там же — у сапожек-упорный ребеночек с совочком и соплей, метрах в пяти от ребеночка вижу человека в очках, копавшего неумело и прилежно, с почти слезным умилением горожанина без дачки, без садоводства, которому уже факт, что
весна, лопатка копает, способен подарить редкостное блаженство открытия, просветление. Вижу еще троих, засыпающих лужу, саму лужу, медленно подъедаемую песком, и непременно спину Николаева, откуда бы ни глядел. И потом, когда уже заканчивали, расходились, в дверях средней парадной протемнела его спина, пузырь, заплата, блеснул, поймав солнце, кусок новенького черенка.
Анфас я увидал его примерно через полгода. Он преодолевал щекотливый участок дороги у дома, что простреливается бдящими на скамейке старухами. Надеюсь, не только для меня, но и для прохожих менее мнительных этот отрезок был чем-то вроде Бермудского треугольника для наслышанных кораблей: приближаясь к хозяйству дьявола, чуешь странное волнение, холодок в желудке, ноги сучат, стыдно слабости, но этого маловато, чтобы страх прекратился. С единственной целью — как-нибудь отвлечься, я жадно вперился в идущего навстречу человека, и отвлечься, надо сказать, удалось. Во-первых, Николаев был одноглаз, что само по себе бывает не так уж часто. Что поделаешь, читатель, что поделаешь… Как хотел бы я, чтобы у этого человека было два глаза. С какой радостью я написал бы, что у него было три, четыре глаза — пусть фантастика, гипербола, но как гуманно. Более того. Вынужден сказать, что и единственное николаевское око не захватывало голубизной — тем желанным пигментом, что сродни нашей бессознательной жажде, небу и свету и без всяких дополнительных усилий располагает к- себе открытую для красоты душу. Не было оно и карим или хотя бы серым, а, вернее всего, вовсе не обладало известным цветом. Глядел Николаев прямо, не длинно, не коротко, но весьма пристально; взгляд его как бы имел резьбу, на конце заострялся и немного ввинчивался в попадавший в его поле объект. Было не отделаться от впечатления, что взгляд этот идет не от человека, не от глаз собственно, но начинается чуть впереди, то есть, что Николаев каким-то образом свой взгляд перед собой катит. Добавлю, катит неровно. Николаев довольно сильно хромал на левую ногу, а вздымая для шага правую, делал ею у земли замысловатый вензель, будто постоянно обходя Коровью лепешку. Понятно, столь очевидные недуги тотчас возбуждали сочувствие, благородную досаду, вину за отсутствие у себя таковых же. Роста он был среднего. Одет тепло. Крепко, судорожно он сжимал в руке авоську, на дне которой, как на чашечке чутких аптекарских весов, покачивалась небольшая, с кулачок младенца, магазинная редечка.
Я не запомнил бы всего так подробно (кстати, Николаев был без головного убора, и на лбу, там, где расступалась жиденькая пацанья челка, виднелась красная бороздка от кепки), если бы не общий знак, что присутствовал в этой картине, задавал ей тон: Николаев совершенно не замечал старух. Похоже, сама возможность огрызнуться, крякнуть, зыркнуть, хмыкнуть, пусть без адреса, но и не без значительности плюнуть в сторонку или, напротив, улыбнуться, поклониться неизбежному, подхихикнуть — как-то отмежеваться или солидаризироваться с суровым судом — не приходила ему в голову. Видно, так он был крепок, так далек дворовой мелочности, что все соблазны подобной тяжбы или дружбы пролетали мимо него, точно девичьи шепоты мимо «артиста в силе».
Потом я встретил его в пункте по приему стеклотары — сыреньком, кислом и довольно большом подвале с длинными скамьями по стенам, на которых в полутьме ожидали люди. На цементном полу угрюмо покоились многоугольники сеток, рюкзаков, сумки, саквояжи, баулы; люди молчали. Я слегка прикорнул. Вдруг возникала искра, и тогда огнем по сухостою бежала речь. Джинны, алчущие справедливости, жертвы похмелья, Бог знает чего, мигом вылезали из различной емкости и укупорки бутылок, бились головами в стены и потолок подвала, лупасили себя кулаками в груди, вспоминая какое-то былое, пускали нервные ностальгические слезы по таким же, как они, призракам, все чего-то от кого-то хотели и требовали, не забывая, однако, жадно следить за порядком очереди и пресекая любые попытки его нарушить; притомившись, испустив убогий дух, с шипением втягивались и вяло растекались по мутным сосудам.
Николаев, прикрыв глаза, дремал. Как и в случае с дворовыми старухами, он ничего не демонстрировал, не провозглашал, ничего ничему не пытался противопоставить, и ни одна видимая жилка, желвачок не дрогнули на его лице. Лишь однажды он ковырнул в носу, да и то без удовольствия и охоты — точно не в своем, а когда подошла его очередь, он, так и не открывая глаза или соорудив одностороннюю оптическую систему — «оставаться невидимым, но самому видеть», — ринулся на амбразуру и ловко выставил на подоконничек свои семь бутылок, между прочим, молочных. Он предоставил усатому приемщику три попытки выдать верную сумму: не шевельнулся, когда усач метнул первые деньги, не шевельнулся, когда тот поменял гривенник на пятнадцатикопеечную, лишь когда молодой человек ехидно катнул наконец еще пятак, деньги взял и, вензеляя ногой, пошел прочь.
Все, собственно, началось с водяной лихорадки. Не будь в нашем довольно новом и весьма крепком железобетонном доме кранчиков с красной сердцевиной, не лейся из них поначалу (при закрытом синем) горячая вода, не существуй этого намека, все, думаю, было бы более или менее хорошо, вряд ли кому вздумалось претендовать на гармонию полную. Вскоре горячей воды не стало. Потом лилась, но прекратилась холодная. Потом ринулась холодная, но исчезла горячая. Потом — не так уж недолго — не было никакой. Казалось, надобно одно усилие, чтобы, догнать и навсегда ухватиться за хвост цивилизации. Котельная. Постепенно это парное водянистое слово вконец размякло, отслоилось от первоначальной своей сути, приобрело в умах черты мистического, трансцедентного, невидимого и непознаваемого. Она отворачивалась от нас, как капризный языческий божок от своей паствы — наивной, вдруг даровала краткие милости, вдруг разгневанная, надувала губки, не сомневаясь в своем праве на такие капризы. Котельная задавала нашему бытию еще один ритм, учила радоваться малостям, стыдиться своего бесконечного «хочу» и кому-то, имеющему склонность и досуг, задумываться над причинами этого стыда. Словом, всячески нас терзала. Котельная отодвигала в некое будущее рай одновременного поступления в смеситель горячей воды и воды холодной, словно не была уверена, что в водяном раю нам тотчас не понадобится иная жажда и надежда. Скажу: жизнь сильнее котельной. Обменявшись, в дом приезжали новые жильцы, чесались, обжигались, негодовали, ходили в баню, возвращались, трогали кранчики, ждали, роптали тихо, обобщали по привычке; пообвыкшись, жили себе дальше, повторяя таким образом путь старожилов. Рождались дети, тянулись к кранам. Семеро в нашем доме почили, унеся тайну котельной с собой — оболом неведомому Харону: Прошло три года. По правде говоря, какой водой со сна умываться, мне было наплевать.
Воскресным январским утром в дверь ко мне позвонили. Ничего. худого не подозревая, я вылез из-под одеяла и глянул в дверной глазок. У порога мялся тот самый человек в очках, чье приятное умиротворенное лицо украшало полузабытый уже субботник по благоустройству двора. Я сбросил цепочку, отпер, вышел на площадку.
Мужчина был меньше меня ростом и значительно тщедушнее… Толстые стекла в очках констатировали сильную близорукость. Одет он был запросто: тонкие ноги дешевеньким плющом обвивали хлопчатобумажные тренировочные штаны, клетчатый полинявший китайский свитерок шестидесятых годов, такой где-то на антресолях комкался и у меня.
Я сразу почувствовал к гостю то особенное безмятежное расположение, которое почему-то дарили мне люди меньше ростом и более узкие, чем я, в плечах. Хотелось потеребить его ухо, мочечку, положить руку на теплое темечко — как-то отозваться.
— Я из седьмой квартиры, — объяснил он. — Моя фамилия Савельев.
— Очень приятно.
Какое-то время мы молча стояли рядом — привыкали друг к другу? Потом в руках у меньшого появилась книжка, из которой он вынул сложенный пополам листок. Сердце мое дернулось. Нетерпеливо и осторожно я извлек листок из его пальцев и, как ночную телеграмму, зачем-то пытаясь поскорее узнать правду, прочитал. Речь шла всего-навсего о котельной. «Мы, нижеподписавшиеся жильцы дома номер двенадцать, корпус три по улице Строителей…» Всего-то. Я почувствовал легкость, легкость нечаянного освобождения, и едва удержался, чтобы не скопировать радиомотив, доносившийся из моей кухни. «С добрым утром, с добрым утром…»
— Чаю. Давайте-ка выпьем чаю, — сказал я, вставляя бумажку в его пальцы. — Скажите, как вам спится?
Подвижник не ответил, неуверенно шагнул через порог и застыл в центре прихожей, ожидая дальнейших указаний. Тогда, подхватив безымянным пальцем остренькую косточку его локтя, я проводил соседушку в кухню и выдвинул табуретку. Он сел. Я налил чаю, поставил на стол рафинад, сухарики ванильные и сел напротив. «Философские искания Ж- П. Сартра», прочитал я на корешке его книжки. О! Бывает еще и такое?!
— Приятно видеть человека с серьезной книгой, — сказал я. — Знаете…
Он едва улыбнулся.
— А то привыкаем к фельетонам. Хе-хе… Сахарку?
Савельев взял кусок сахару, опустил в стакан.
— Берите еще, — попросил я, — не стесняйтесь.





