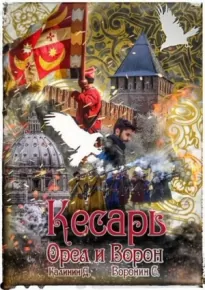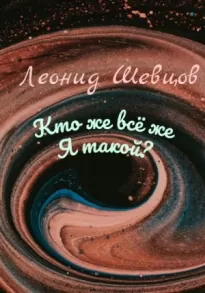В прах
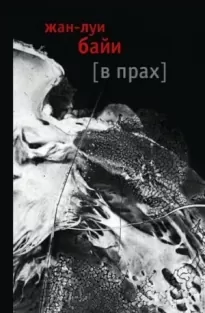
- Автор: Жан-Луи Байи
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 2016
Читать книгу "В прах"
XIV. Концерты
В одном английском, а значит, вне всякого сомнения, непредвзятом исследовании среди пятнадцати самых зловонных сыров оказалось тринадцать французских: Вьё-Булонь, Пон-л’Эвек, Камамбер, Мюнстер, Бри-де-Мо, Рокфор, Реблошон, Ливаро, Банон, Эпуас, Раклет, Оссо-Ирати и Кротен-де-Шавиньоль. Остаются Пармезан (одиннадцатый) и Чеддер (четырнадцатый), последний присутствует в списке не иначе как для того, чтобы подчеркнуть британскую беспристрастность.
После десяти месяцев созревания Поль-Эмиль мог бы заслуженно фигурировать в этом списке. Он и в самом деле стал объектом казеиновой ферментации и привлек мух той породы, которые — за неимением трупа — довольствуются тем, что откладывают яйца в первом попавшемся куске сыра.
В результате Поль-Эмиль выглядел несколько игриво, наверняка из-за поведения личинок Pyophila easel, которые на нем прыгали и резвились, а также личинок Pyophila petasionis Duf, название которых созвучно слову «педофил», а также рифмуется со словом «тартюф»; эти не предвещающие ничего хорошего ассоциации явно клеветническое (Дюф вообще-то аббревиатура фамилии Дюфур, которую носил первооткрыватель пресловутой мухи, и отсылка к «тартюфу» здесь совершенно неправомочна). Поскольку к празднику присоединились и костоеды, — это уже жесткокрылые, — то стало еще веселее. Впрочем, у четвертого звена нашелся бы повод посетовать на бесцеремонность предыдущих: повсюду на теле, вплоть до самых укромных уголков, в глубине пазух, работники первых звеньев оставили на рабочих местах всевозможный мусор, в частности тысячи кукольных коконов.
А еще к нашему персонажу в гости залетели такие эклектичные твари, как цветочницы. Этим годится все: и обычно засиживаемые ими цветы, и падаль; они откладывают яйца в земле и в гниющих грибах, когда нет трупов; в организмах мертвых, а также живых. Здесь уместно вспомнить о пикантных анекдотах, которые встречаются среди изысканных описаний Меньена: так, одну страдавшую желудком женщину должным образом напоили касторкой, и ее вырвало полусотней совершенно здоровых и невредимых червячков цветочницы; у другого пациента ушная сера забродила так, что цветочницы поселились внутри уха и отложили свои яйца, ох, бедный дядюшка Бельом! Но несмотря на присущую им широту взглядов, цветочницы больше всего предпочитают сыр. Меньен находил их на трупах, а также, — уточняет он, — на перезрелом мягком сыре Куломье.
Теперь две гипотезы и два скетча.
Гипотеза № 1.
Г-жа МЕНЬЕН: Пьеро, сегодня утром я зашла в твой кабинет, чтобы вытереть пыль. Как там воняло! Какая вонь! Я стала искать по запаху, и угадай, недотепа ты этакий, что я нашла на столике за книжным шкафом: перезрелый мягкий сыр Куломье!
П-р МЕНЬЕН: Только не говори, что ты его выбросила, несчастная!
Гипотеза № 2.
П-р МЕНЬЕН (один): Эжени — потрясающе самоотверженная женщина, верная супруга, преданная мать, но как можно быть такой несобранной? Вот что я нашел в глубине продуктового шкафа — и сколько времени это там пролежало? Перезрелый мягкий сыр Куломье! Но... но... этот Куломье кишмя кишит!Неужели...? Спасибо тебе, дорогая моя Эжени!
Луи Дарёй предостерегает Поля-Эмиля. Старина, на концерте ты должен вести себя спокойно. Всякий раз, когда во время антракта я брожу по залу или фойе, на выходе, я слышу, как о тебе говорят неприятные веши. Твоя экстравагантность утомляет. Но ты ведь сам говорил, что люди это обожают? Они от этого устают, ты ведь не чудо на ярмарке, ты — музыкант.
Честно говоря, Поль-Эмиль не очень хорошо понимает, на чем основано это обвинение в экстравагантности. Ну, ты же понимаешь, то, как ты двигаешься, как кланяешься...
Однако это правда: он и сам не осознает, что двигается как робот, на сцене еще более странно, чем в обычной жизни, потому что от фрака, фалды, лакированных туфель чувствует себя каким-то накрахмаленным. Что касается манеры резко, на какую-то долю секунды складываться пополам, а потом убегать к роялю, чтобы прервать аплодисменты и освободить место для музыки, то это происходит из-за его боязни сотен чужих взглядов. Его жизнь — не на авансцене, она - в клавишах. Они же приходят смотреть не на то, как он танцует! Какое значение имеет его неэлегантность?
Но публика хочет, чтобы ее любили!
Я не хочу ее любить, я ее не люблю. Я ее принимаю, терплю. Пусть приходит смотреть на то, что происходит между роялем и мной. Пусть проникает в мой мозг и пытается понять, что я слышу в нотах. Я разрешаю ей эту нескромность, и этого достаточно. Но ей всегда нужно больше! Еще, еще, бис, бис, истерики! Получить сполна за уплаченное — вот что их беспокоит.
С тобой они хотят продлить счастливый миг музыки.
Нет! Они принимают меня за мясника. Когда они платят за ромштекс, он дает им еще и потроха для кошки, и они довольны. В булочной, два раза в год, хозяйка дарит детям покупателей заварную булочку, и они довольны. На концерте оркестр играет отрывок на бис, и как они гордятся: представляете, сорок музыкантов играют еще раз для меня одного. И убеждают себя, что музыканты делают это не для всех и играют на бис только в этот вечер. Так вот — нет, моя музыка не куриная печенка и не заварная булочка.
Это правило игры. Это как говорить «Здравствуйте» и «До свидания»: в пятнадцать лет это никому не нравится. Но тебе давно уже не пятнадцать лет, если такое в твоей жизни когда-то и было, а от этого номера с сонатиной будет еще хуже, прекрати, я тебя умоляю.
Номер с сонатиной Поль-Эмиль выкинул на одном из вечерних концертов, в начале гастролей. Он давал мощную программу: полтора часа виртуозною романтизма, в частности композиторов «Бури и натиска», которые физически вымотали его так, что он был весь в мыле. А зал ликовал, требовал еще, мерно хлопая в ладоши, громко топая ногами.
Поль-Эмиль вновь вышел на сцену, машинально поклонился, положив руку на рояль, сел и начал играть еще до того, как аплодисменты стихли.
И что все услышали? Маленькую сонатину Бетховена, из первого сборника «Любимые классики». У себя дома публика в восемь лет играла ее сама, а потом еще терпела, когда ее вымучивало потомство. Разумеется, эта сонатина имела для Поля-Эмиля особенное значение, значение первых нот, которые он извлек из пианино, но публика этого не знала. Его подростковая дерзость и провокационность вызвали улыбку, но вместе с тем публика не могла удержаться от мысли, что таким образом ей отвечают на аплодисменты, смеются в лицо, дают пощечину. Поль-Эмиль с насмешливым и невыносимо заносчивым видом встал, вновь склонился всем корпусом и удалился. На этот раз аплодисменты сникли быстро, и к публике Поль-Эмиль больше не выходил.
Прием ему так понравился, что на следующих концертах он его повторил. Луи Дарёй закипая. Люди негодовали. Я играю не для людей. Они заплатили за то, чтобы слушать тебя. Ну и что? Играли бы сами: тогда бы не пришлось платить и слушали бы их самих. Ты кончишь тем, что будешь подыгрывать на полдниках в курортном казино. Ну и хорошо, я люблю игровые автоматы.
Разговоры между Дарёем и Полем-Эмилем всегда завершались колкостями. Но не доходили до того, чтобы импресарио осмелился высказать своему подопечному то, что он угадывал на каждом концерте, эту неловкость слушателей, когда фигура Поля-Эмиля появлялась и его черты вырисовывались на свету; чувство, с которым они не могли совладать, ощущение чего-то ошибочною, а еще более смутное ощущение того, что его уродливость обвиняла их, не тронутых уродством, подобно тому как его гениальность за инструментом осуждала их посредственность. Ощущая одновременно несправедливость своего везения и своей ограниченности, они весь концерт неосознанно злились на Поля-Эмиля, а под конец эта образина осмеливается еще и потешаться над ними. Следующие концерты они проведут вместе с последней скрипичной нимфеткой, клавесинным Браммелом, кларнетным Валентино. А этот Луэ пускай проваливает с глаз долой.
Это происходило еще до известной нам измены. После нее все осложняется и усугубляется.
Критики единодушны: несмотря на столь юный возраст, Поль-Эмиль Луэ достиг вершин фортепианного искусства. Его техника кажется безупречной. Он постоянно испытывает себя на виртуозность и выходит из этих испытанной победителем. Его сравнивают с Горовицем, в частности, когда он требует инструмент, клавиши которого отзывались бы на опустившееся перышко. Он берет безумные темпы, как фигурист, чередует каскады из тройных тулупов. Будут еще долго вспоминать его выступление с Московский филармоническим оркестром, где он даже не блестящим, а ослепительным образом справился с легендарными трудностями Третьего концерта Рахманинова: дерзновенность повелителя.
Но это еще не все. Обрушившееся несчастье — черт бы побрал зловредною писателишку, нашелся бы на Бюка какой-нибудь Страшный Бука — закалило Поля-Эмиля и открыло ему врата, ключ от которых дается лишь великим. Он триумфально исполняет Бетховена. «Редко „Соната для Хаммерклавира" исполнялась с такой глубиной: Поль-Эмиль предлагает потрясающее видение грандиозной архитектоники, которую подчиняет себе с первых же тактов, словно необычайный музыкальный интеллект позволяет ему охватывать ее целиком, хранить в уме во время всего исполнения. Самый придирчивый критик, всегда готовый выискивать изъяны, сразу же отказывается, зная наверняка, что его усилия будут тщетны». — Еще одно испытание, которое он преодолевает с такой же легкостью, но уже другими средствами — обманчивая простота Моцарта, Под его пальцами раскрываются Гайдн, Шуман. «Не одно десятилетие я слушал ,,Kinderszenen“ в исполнении многих талантливых и гениальных музыкантов, — написал один критик, — и не думая, что смогу открыть что-то новое. Сегодня я спросил себя, слышал ли их когда-нибудь вообще».
Но часто Поль-Эмиль заходит слишком далеко. Измена сняла все барьеры: терять ему нечего, он похож на отчаявшегося человека, который идет по краю пропасти и думает, что если упадет, то покончит со своим отчаянием, а если не упадет, то увидит то, что другие никогда еще не видели. Когда он не проваливается, то открывает в исполнительстве новые пути. Когда проваливается, то ему кажется, что его провал — своеобразная месть, иначе он не может объяснить ощущаемое им парадоксальное облегчение.
Он берет головокружительные темпы: по эту, удачную, сторону грани — гениально; чуть быстрое — сложные пассажи слипаются, звуковой объем теряется, — плохо. Между ярчайшим выявлением того, в чем композитор не осмеливался признаться самому себе, и полный искажением замысла удерживается граница, тонкая нить, на которой Поль-Эмиль все время рискованно балансирует. Он все чаще непредсказуем, его выступления все чаще неровны. По-прежнему говорят о гении, но гении взбалмошной, лунатическом. Поговаривают, что он выпивает, хотя это неправда. Подумывают, хотя и не пишут, что его подстерегает безумие. Он начинает пугать.
Если бы его дерзость была только музыкальной! Но он и ведет себя все более экстравагантно. С публикой — все резче, жестче, вызывающе. С каждым выступлением просьбы сыграть на бис раздражают его все сильнее. Иногда он отвечает сонатиной, иногда — отрывком на три четверти часа, назло зрителям, которые должны успеть на электричку или отпустить няньку; а иногда — словами: сегодня вам бисов не будет, провинились, слишком много кашляли. После триумфального исполнения Третьего концерта Рахманинова, вместо того чтобы пожать руку первой скрипке, он целует в губы приглянувшуюся альтистку. Дирижеры побаиваются, устроители концертов вот-вот начнут отменять его выступления и менять программу. Луи Дарёй тревожится и негодует.