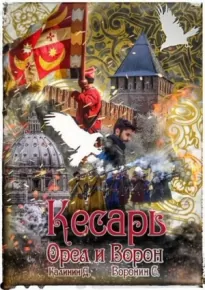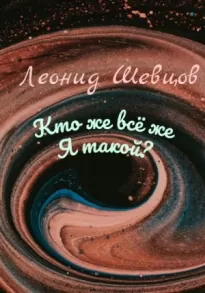В прах
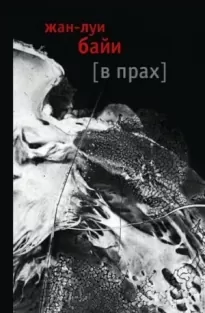
- Автор: Жан-Луи Байи
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 2016
Читать книгу "В прах"
XVI. Последний концерт
Пятое звено вступает в наименее эстетичный — если суждение такого рода допустимо по поводу естественной работы, где каждая стадия, безусловно, необходима, — момент разложения. Прогорклое масло — пусть; французский сыр — почему бы и нет: мы чувствуем свою близость с третьим и четвертым звеньями. Но следующий этап деятельности — местом которой по-прежнему остается Поль-Эмиль — призвал работников, чьи вкусы покажутся многим из нас весьма спорными.
Мушки Thyrcophora из семейства Acaliptera с разбойничьими кличками Anthropophaga (Людоедка), Furcata (Раздвоенная), Cynophila (Любительница собак — понимай, их посмертных останков). Жесткокрылые рода жуков-могильщиков: Necrophorus fossor, иногда называемые Humator. «Могильщик», «нюхальщик» — вот уж названая, которые сразу внушают доверие.
Комментирование названий позволяет нам не смотреть в сторону Поля-Эмиля, уже охваченного аммиачным брожением. То, что оставили предыдущее звенья, не подлежало съедению, и в результате брожения животная материя превратилась в черноватую жижу, которая вызывает у нас тошноту. Этим черным винцом уже несколько недель опиваются мухи и жуки. Не будем задерживаться в сарае, зрелище вряд ли стоит мучений, которые мы испытываем от миазмов, непригодных для дыхания. Закроем за собой дверь (но аммиачный запах будет преследовать наши ноздри, отчего возникнет ощущение, что смрадом охвачено все вокруг, включая красивую рощицу и заброшенный огород). И откажемся от прелестей некрографии ради услад этимологии.
Строго говоря, к нашим звеньям термин «звено» подходит не так удачно, как казалось сначала. За французской escouade стоит итальянская squadra, которой мы обязаны словами «эскадрою» и «эскадрилья». А за этой squadre — позднелатинское выражение ex quadra, то есть нечто, выстроенное в форме квадрата. Получается, что данным термином определяют мелкие отряды, четко организованные по примеру соединений римской армии.
Однако (если вы не против, заглянем еще раз в сарай) в этом кишащем множестве, где каждая особь руководствуется лишь представившейся возможностью и степенью своей прожорливости, трудно усмотреть какой бы то ни было порядок. То, что из совокупности частных пороков получится общественная добродетель, то, что из отвратительного трупного месива выйдет белый, гладкий, ничем не пахнущий скелет, над которым сейчас трудится Поль-Эмиль, — это еще ладно. Но «звено»! Несметное скопище без руководства и единого плана действий никак не соответствует выбранному названию.
Вот так, пунктуальный и щепетильный Меньен пойман с поличным, изобличен в преступной приблизительности. Но поэтической. Ведь кто угодно признает, что слово выбрано не для точности, а ради звучания, нежно-зовущего и вместе с тем звонко-военного. За то, что подсказывает идею высшей организации: конечно, у этого звена нет командира, но есть Главный штаб, назовем его Богом или Природой, который систематически ведет свою кампанию до полного уничтожения всех зон сопротивления. А еще за итальянское происхождение: из кажущейся дезорганизации рождаются прогресс и благополучие. Пусть всякие недоумники ищут другое слово: только зря потеряют время.
В серых сумерках, в ожидании, когда откроются двери театра на Елисейских Полях, стоит длинная очередь. Вдоль очереди проходит невысокой мужчина в бежевом плаще и, не раздумывая, направляется к боковому входу. Его никто не замечает, ни один из ожидающих не толкает соседа локтем при виде невзрачною невысокою мужчины, проходящею мимо. Через полчаса невзрачный невысокий мужчина, Маурицио Подлини, выйдет на сцену под бурные аплодисменты тех, кто перед театром даже не обратил на него внимания. Свет, антураж, большой черный рояль в центре ярко освещенною круга, все это действительно увеличило в размерах и явило во всей славе его фигуру — фигуру из телевизионных передач, с обложек пластинок и во время образцовых исполнений.
Сцена, свидетелем которой Поль-Эмиль был все годы своего обучения, разъяснила ему, что такое слава пианиста. Однажды, будучи еще почти ребенком, Поль-Эмиль увидел на улице такого же безликою старого Рихтера; тот, кого всегда представляли пианистическим гигантом, показался ему маленьким, сжавшимся, тусклым.
Что касается самого Поля-Эмиля, то у него еще больше причин сохранять анонимность. Он редко появляется в телестудиях, куда предпочитают приглашать персонажей для украшения вечера и декольтированных пианисток. К тому же он совершенно резонно полагает, что узнать его будет нелегко тем, кто представляет себе его внешность лишь по руке Шопена.
Как и многие музыканты, перед концертом Поль-Эмиль придумывает себе своеобразный ритуал. За час до начала устраивается в ближайшей от концертного зала кафе и заказывает льежское какао (зимой) или ментоловую воду «Перье» (в погожие дни). Он старается не думать о предстоящей программе и, не особенно обращая внимания, слышит, о чем говорят вокруг. Иногда слишком рано пришедшие зрители говорят, конечно же, о нем, исполнителе, но, как правило, недолго. То, что они рассказывают, выслушивается им с одинаковым безразличием и никак не меняет его убеждений: от зрителя, какими бы ни были его познания и вкусы, требуется только, чтобы он платил.
В день своего последнего концерта он расположился в Кафе Муз, в двух шагах от муниципального Гранд-театра. К тому времени деловая активность заведения спала: банковские служащие, мелкие чиновники, клерки и продавцы уже выпили аперитив и разошлись по домам, а клиенты, заглядывающие пропустить рюмку после ужина, еще не пришли.
Соседний столик занимают трое молодых людей. Девушка, симпатичная блондинка, устраивается на банкетке: один из двух кавалеров усаживается рядом с ней, к ней. Он машинально поигрывает рукой девушки; жест, менее демонстративный, чем поглаживание, все же дает понять, что два этих тела принадлежат друг другу. Другой кавалер, юноша в зеленой куртке, садится напротив них. Именно его Поль-Эмиль со своего места видит лучше всего. Взгляды, которые юноша бросает на влюбленную пару, выражают отношение ровное, но лишенное холодной нейтральности; они задерживаются на девушке не дольше, чем на ее спутнике, словно к студенческому приятелю и желанной женщине можно относиться с одинаковым дружелюбием.
Они говорят мало, цитируют имена, которые Поль-Эмиль, разумеется, не знает. В какой-то момент блондинка говорит: Это напоминает Гюго. Речь, должно быть, идет не о писателе, поскольку второй юноша отвечает: Такой не скоро покатит на скутере. Эта фраза вызывает смех у всех троих, сначала смущенный, а потом все более откровенный.
Смех женщины — даже если она часто не отдает себе в этом отчета — это непредсказуемое оружие. Когда он раздражает, мужчины или некоторые из них отступают, дабы подавить в себе желание убить; когда он обольщает, мужчины или некоторые из них чувствуют к этой женщине внезапное и резкое влечение. Поль-Эмиль, услышав смех симпатичной блондинки, уже не может оставаться в кафе ни минуты — не потому, что этот смех его злит, напротив, он иного свойства, он несет в себе желание.
И дружбу между тремя смеющимися.
И заговор, о котором свидетельствует реакция на невинную фразу.
И двусмысленность, в которой ни один соучастник не признается, запретное желание, которое скрываешь от себя самого, когда находишь очень симпатичной подругу своего друга или таким забавным друга своего любовника.
Поль-Эмиль торопливо встает, платит и идет к себе в гримерку. Сегодня вечером он играет - и это настоящее событие — три последние сонаты Бетховена. Этого ждут многие. Приписываемые ему способности должны будут раскрыться в полной мере, проявиться с ослепительным блеском. Слушая три сонаты подряд, — Поль-Эмиль потребовал, чтобы концерт шел без антракта, — зрители поймут, какой мостик музыкант перебрасывает от Andante molto cantabile в Тридцатой сонате (ор. 109) к ее родной сестренке Arietta adagio molto в Тридцать второй (op. 111). Никто лучше Поля-Эмиля не заставил бы их оценить беспрестанную творческую изобретательность Бетховена в этих последних сонатах; смены ритма и настроения, гармоническую дерзновенность, неслыханные формы, которые придумываются на каждой странице, искусство контрапункта, возрождение таких старых форм, как большая фуга в adagio ma non tropро Тридцать первой сонаты. В такие исключительные дни Поль-Эмиль лучше всего настроен на то, что играет, лишь когда его искусство — искусство противостоять, поражать, сокрушать — встречается с волей композитора, который, как и он, уже обошел все преграды.
Поль-Эмиль выходит на сцену. Зал забит до отказа. Из Парижа приехали тонкие критики: вот последнее испытание, которое выявит, кто же такой этот Луэ: музыкант или жонглер, пианист или эквилибрист. Он понимает всю важность момента, но не смущается. Об этих трех сонатах он думает уже столько лет. Он знал их наизусть, задолго до того, как оказался в состоянии сыграть. Все ноты, темпы, приемы у него в голове. Он знает, куда можно заходить, — очень далеко, но не дальше того, что разрешает Бетховен. И его пальцы — это уверенность — будут сегодня вечером безошибочны. Отныне благодаря своей технике он может позволить себе все.
Он выходит на сцену, ему не терпится начать; он едва приветствует зрителей, бросается к клавишам: первые такты Тридцатой сонаты заставляют умолкнуть шептунов, чьи слова зависают в воздухе.
Всё на месте. Возбужденно. Величие. Шепот. Умиротворение. Человеческий голое. Тишина.
Даже самый несведущий слушатель понимает, что на его глазах происходит чудо и этот безобразный человек не просто концертирующий музыкант. Страдающие от катара не кашляют, носовые пазухи простуженных высыхают, а их глаза увлажняются.
Двум первым сонатам почти не аплодируют. Дело не в том, что они не понравились; после услышанною продолжительные аплодисменты показались бы кощунством. Публика перестает хлопать и ждет, пока Поль-Эмиль вытрет пальцы платком; она, как и он, жаждет продолжения.
Наконец настает время последней сонаты, Тридцать второй. Мы знаем, что в ней — как и в Тридцатой, с которой она во многом перекликается, — всего две части. Вторая часть длится больше четверти часа и является сама по себе монументальный шедевром.
Начало adagio molto следует играть «просто и певуче». В этот вечер рояль «Бёзендорфер» поет под пальцами Поля-Эмиля так, как может петь только под пальцами великого мастера и как пел, когда Бетховен сочинял. И все зрители единодушно убеждаются в поразительной интуиции Бодлера: чувство прекрасного — это страдание, точнее, ностальгия. Радость, испытываемая при слушании Arietta, — это радость, в которой — сказали бы Бодлер и Платон — плескалась наша душа до того, как ее засунули в немощное и грузное тело. Возможно, это еще и радость детства. В любом случае это потерянная страна. От ностальгии по утраченной радости в зале сжимаются тысячи сердец.
Затем фактура усложняется. Тема по-прежнему проста и мелодична, но уже звучит на фоне все более сложных гармоний и в какой-то момент начинает дробиться синкопами. Так подготавливается длинный пассаж forte, чья взрывная сила высвобождает среди равнинной глади эдакое анахроническое джазовое неистовство.