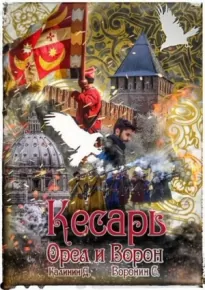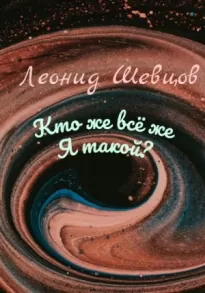В прах
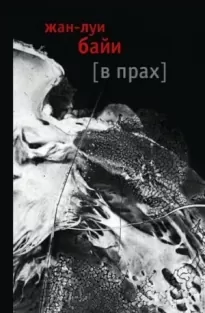
- Автор: Жан-Луи Байи
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 2016
Читать книгу "В прах"
IV. Уроки
Livor mortis. Мертвенная бледность звучит приятно и на латыни. Слово livor обозначает, честно говоря, цвет скорее голубоватый, чем багровый или фиолетовый; это цвет грозового неба, цвет гематомы после тумака. Мертвенные бледности, затрещины или заушины смерти: звучит неплохо. А в переносном смысле — подсказывает мне словарь-это означает еще и зависть. Там, в сарае, смерть, завидуя своей очередной жертве, этому пригожему трупику пианиста, который некогда пользовался какой-то известностью, взялась за него и побила его своими костяшками, чтобы показать, кто теперь главный. Ты принадлежишь мне и никому другому. Потомки? Ты вздумал надо мной смеяться или меня испытать? Смотри, как я обхожусь с теми, кто сомневается в моем всемогущество. Бум. И вот на коже показались маленькие следы ударов, ударов Смерти, которая завидует этой жертве, как и всем прочим, животным и людям, — но позволим себе толику тщеславия, на нашей человеческой коже, нашей животной коже без шерсти и перьев, без панциря, это проявляется все же красивее.
Сначала она поразила, как всегда, в шею. Эффект не заставил себя ждать: спустя два часа после того, как он плюнул в небеса своей последней нотой, по-детски жалобной и дрожащей ля-бемоль, под горлом образовалась маленькая лужица крови, и на коже отложился первый причудливый мазок непредсказуемой формы и изменчивого цвета. Если вдуматься, livor означает еще и желание, употребляем ли мы французское слово envie в прямом смысле (влечение, стремление) или в производном (родимое пятно, по которому в былые времена на теле новорожденного определяли прихоти вынашивавшей его матери).
Лишь зоркий глаз сумел бы в сумраке сарая сразу различить эти пятна, розовевшие с робкой неопытностью дебютантов. Но мало-помалу они набирались уверенности, становились видными и импозантными. И затмевали собой все — да так, что это даже вызывало неловкость. К счастью, вызывать неловкость было не у кого — никто так и не войдет, — и стыдливость Поля-Эмиля, pudor mortis, никак не пострадает. В этой связи прошу вас подумать об останках кокетливых женщин, чья кожа никогда не могла обойтись без макияжа: сокрытие ужасного кладбищенского цветения они вынуждены вверять нежелательным свидетелям. К чести Поля-Эмиля следует отметить, что он никогда не заслуживал упрека в кокетливости и, даже взглянув на себя и свои шейные пятна в тот момент, не испытал бы и тени смущения.
К двенадцатому часу эти неприятные пятна достигли наибольшей густоты. А к пятнадцатому часу они уже не могли довольствоваться одной шеей и стали проявляться на других участках тела. Но мы ведь не судебно-медицинские эксперты и, учитывая нашу некомпетентность, вовсе не намерены вскрывать этого несчастного Поля-Эмиля. Кромсать его мы не собираемся; напастей и так хватает.
Однако признаемся: против его воли или неволи, мы все же не удержались от парочки безобидных экспериментов над этими пресловутыми бледностями. Но рассказ об этих забавах отложим на потом, поскольку наше время еще не истекло.
Вы только посмотрите на родословную!
У Бетховена был ученик Карл Черни, учеником которого был Теодор Лешетицкий, учеником которого был Мечислав Хоршовский.
У Шопена был ученик Кароль Микули, ученицей которого была мать Мечислава Хоршовского, учеником которой, в раннем детстве, был Мечислав Хоршовский.
Мечислав Хоршовский умер на сто первом году жизни, свежеиспеченным пенсионером сцены, на которой блистал вплоть до 1991 года и которую покинул в девяносто девять лет. Одним из учеников, выплеснутых этим долголетним потоком, был Антон Кюрти, который впоследствии — по случаю пятидневного курса обучения, помпезно объявленного «мастер-классом», — передал десятку консерваторских студентов два-три истощенных гена Бетховена и Шопена.
В числе этих студентов оказался Станислас Фермантан.
К нему-то и пришел Поль-Эмиль Луэ восьми лет и трех недель от роду.
Полагая себя чуть ли не прапраправнуком Бетховена и Шопена, — хотя оба умерли, так и не успев произвести на свет какое-либо потомство, — Станислас Фермантан определял размер своих гонораров исходя из этого прославленного родства. Сумма, которую он объявляет, не дрогнув, кажется госпоже Луэ безумной, если сравнить с почасовой оплатой ее работы на катерпиллере.
Реакция негодующей мамаши не может не привести в замешательство: громкий откровенный смех. Она уже развернулась, но Фермантан удержал ее; он хотел бы послушать мальчика. Мама его ученика Луи Дарёя уверяла, что этот мальчик действительно одарен.
Поль-Эмиль садится за рояль. Второй раз в жизни, но впервые за такой инструмент. Клавиши такие же, как у Луи, хотя белые — чуть желтее, потому что на них не пластик, а настоящая слоновая кость. И самое главное — он не стоит, а лежит; чувствуешь, как он растянулся, и с низенькой табуретки не видно его целиком. Это как пейзаж, как целая страна.
Это чувство никогда не покинет Поля-Эмиля, даже после тысяч занятий, сотен концертов. Сесть за инструмент, подобный роялю Фермантана, — значит стать повелителем этого царства, узнать все его провинции, всем владеть, надо всем царить.
Что ты умеешь играть? — спрашивает профессор.
Ничего.
Ну, Поль-Эмиль, ты же помнишь отрывок, который показал тебе твой одноклассник? Лишь одна мамаша Луэ — простая душа — не увидела ничего чудесного в событии, случившемся два месяца назад.
Поль-Эмиль играет услышанный тогда отрывок. Для него также в этом нет никакого чуда, лишь уверенность и очевидность. Он сам — чудо, а как же чудо может самому себе удивляться?
Станислас Фермантан мечтал стать знаменитым пианистом. Места бизнес-класс в самолетах, шикарные лайнеры, прекрасные отели, таинственные женщины, стучащиеся в дверь по вечерам, музыка. Ему пришлось смириться, оставить мечты о славе и об импресарио с золотым браслетом. Хотя он был неплохим музыкантом. Но конкуренты были лучше. Когда-то он получил свою премию, теперь изредка выступает, дает от трех до пяти концертов в год. Записать пластинку уже почти ничего не стоит: если поискать, то можно найти несколько уцененных дисков Фермантана, также неплохих, выпущенных на фирме, которая разорилась и была куплена другой, финансово более здоровой фирмой с каким-то поэтическим или мифологическим названием. Он цепляется за эти мелкие успехи, заказывает визитную карточку, где под фамилией стоит слово «пианист», под ним — его консерваторская премия, а еще ниже — дни, когда он дает уроки.
Он похож на писателя, которого публикуют, чествуют в прессе, но у которого не находится читателей. Издательский интерес к такому автору теряется быстро. Если издательства порой и благоволят, то все больше мелкие, близкие к краху. Его горечь увеличивается в обратной зависимости от величины издательства. Сначала он гордится тем, что он писатель, подобно пианисту, который гордится словом «пианист» на своей визитной карточке. Но постепенно убеждается в том, что писатель он неудавшийся. Он начинает завидовать авторам, которые всю жизнь томятся в ожидании публикации: эти могут хотя бы винить систему, корить тайные силы, действующие в прогнившем мире, подпитывать свою паранойю, словно какого-нибудь домашнего зверька, и продолжать верить в свою гениальность, тогда как он, Фермантан, находит в отсутствии читателей — в каждом отсутствующем читателе — подтверждение своей посредственности. И у него когда-то был его звездный час, и в него когда-то верили; из тех музыкантов, что встречались ему на концертах, на конкурсах и в студиях, некоторые вознеслись, а он остался на месте.
И вот он, его шанс. За его роялем — пальцы россыпью, неправильная посадка, необычайно уродливое для этого возраста лицо, но одержимый взгляд, — из рояля Станисласа Фермантана свои первые ноты извлекает гений. Лет через пять-десять он будет давать интервью и всякий раз упоминать о Фермантане, который первым сумел обнаружить способности ущербного ребенка. Первый учитель, это звание нельзя украсть, первый преподаватель остается навеки первым, даже если затем его сменяют более прославленные педагоги. Первый учитель гениального пианиста. Он раскрылся благодаря мне.
Сыграй еще раз.
И пока Поль-Эмиль, восседающий на краю целого царства, слушает, как оно пробуждается под его пальцами, Станислас Фермантан поднимает голову, отчего колышется его грива — невероятная шевелюра, которая встречается только у пианистов, адвокатов, утомленных плейбоев и не имеет другого назначения, кроме как развиваться по ветру словесности, гениальности.
Мадам, принимая во внимание несомненные способности вашего сына, я, разумеется, склонен значительно уменьшить размер своих гонораров.
И сколько это будет стоить?
А какой суммой вы для этого располагаете?
Он приходит заниматься каждую среду. Его удивительные успехи никого не удивляют: ни мать, которая слышала его игру лишь один раз, когда привела его к преподавателю, ни Фермантана, который все сразу понял, ни Поля-Эмиля, который думает лишь о том, чтобы как можно быстрее научиться, хочет все узнать о пианино, полностью овладеть царством, приоткрывшимся ему в первый день. Это нетерпеливость ребенка. Его одноклассники изнывают, ожидая желанную игру или велосипед. Он мается в ожидании сольфеджио, сонаты, менуэта.
Он учится читать музыку. Это занимает две-три недели. Читать музыку так легко.
Голос поднимается, нотки забираются повыше. Голос опускается, нотки спрыгивают вниз. В школе он читает слова с трудом и боязнью, для него буквы по-прежнему — скрытные и коварные противники, а эти красивые нотки с прекрасной формой сразу же согласились для него петь.
Ноги еще коротковаты, до педалей дотягиваются только кончики пальцев. Поскольку буквы не говорят ему ни о чем, в клавире он не узнает первые три буквы напечатанного слова «Педаль». В этом он видит эдакого растянувшегося льва или большого пса, который резким лаем приказывает ему нажать на педаль, — но за ним всегда, как по мановению волшебной палочки, появляется звездочка, которая снимает все чары.
В одну из таких сред Фермантан спрашивает у мамаши Луэ, сколько времени Поль-Эмиль ежедневно посвящает фортепианной игре и на каком инструменте он занимается. В конце каждого урока он задает ученику разобрать самый сложный кусок, на который тот, по его мнению, способен, а к следующему уроку этот кусок оказывается выученный наизусть.
У нас нет пианино, неужели вы думаете, что у нас есть средства, чтобы его купить. Да и куда бы мы его поставили, особенно такое огромное, как ваше.
Фермантан замечает, что рояль вовсе не обязателен, пианино вполне сгодится, и оно занимает не много места. После чего обращается за обьяснениями к Полю-Эмилю.
Я читаю отрывок каждый вечер, много раз, пока глаза не слипаются. И утром тоже, и днем, когда могу, даже на переменах в школе. Читая отрывок, я думаю о нем очень сильно, и о пальцах, которые играют. Сначала это нелегко, я часто ошибаюсь, а еще трудно пальцам, особенно когда ритм очень быстрый. Но в конце оно бежит само собой. Я понимаю, что выучил отрывок, когда мне уже не нужны листы, чтобы его слышать.