Годы без войны. Том 2
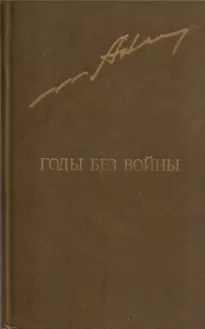
- Автор: Анатолий Ананьев
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 1982
Читать книгу "Годы без войны. Том 2"
XVI
После обеда был подан чай, а после чая все встали из-за стола, и Лукин, потный и красный, подошел к распахнутому окну, чтобы остыть и подышать воздухом. Его мучил вопрос: уйти ли ему сейчас, распрощавшись со всеми и не поговорив с Галиной о том, о чем, он чувствовал, надо было поговорить с ней (и не повидав сына, появления которого с волнением ожидал во все время обеда), или остаться, что было, он понимал, не совсем удобно ему; и пока решал, как поступить, Сухогрудов, устроившийся в кресле в глубине комнаты, через несколько минут уже по-стариковски дремал, наклонив голову и отключившись от всего, что занимало его, а Степанида и Ксения, переглянувшись, удалились на кухню, чтобы оставить одних Галину и Лукина.
— Ну? Видишь? Он только затем и приехал, — сейчас же радостным шепотом объявила Ксения, схватив руку Степаниды; она не могла не сказать это, потому что не могла поверить, чтобы усилия ее были напрасны.
— Ой, Ксеня, Ксеня. — Степанида сомнительно покачала головой.
— Я же вижу, ты что, только затем и приехал!
«Так уйти мне или остаться?» — снова спросил себя Лукин, продолжая стоять у окна и чувствуя по той свежести, какая вливалась в комнату, что наступал вечер и что от полей, луга, от всей не успевшей еще подсохнуть после дождей земли поднималась сырость. И трава и земля — все остывало, отпотевало, и Лукин не то чтобы думал, что было хорошо, что выпадала теперь роса и что это к урожаю, но всей крестьянской натурой своей чувствовал это обилие влаги и жизни. Он не оборачивался и не видел, что старик Сухогрудов задремал в кресле. Состояние молодости и состояние старости так различны, что ему и в голову не приходило, что бывший тесть его, столь энергичный всегда, позволил бы себе задремать. Не слышал Лукин и того, как удалились на кухню Степанида и Ксения, и заметил только, что вдруг стало тихо в комнате, и обернулся, встревоженный этой тишиной. И как только обернулся, сразу понял, что оставлен наедине с Галиной и что та минута, какую ждал во все время обеда, наступила и надо говорить что-то. Но то ясно представлявшееся ему, что он хотел спросить у бывшей своей жены, вдруг будто отступило, исчезло, и он лишь смотрел на Галину, как он часто мысленно смотрел на пароход с шумом, людьми и музыкой, на котором отплывала она, и ничего не говорил ей.
— Что же ты молчишь? — Галина подошла к нему. — Постарела и не нравлюсь тебе? — Она не думала минуту назад, что так будет говорить с ним; но по привычке своей все сложное превращать в простое и по тому бессознательному, как это бывает у женщин, чувству, что так надо, так будет лучше, она начала разговор именно в этом наступательном тоне, словно не только никогда не считала себя виноватой перед ним, но будто у нее всегда было за что упрекнуть его. — Ты женат? У тебя дети?
— Да.
— И ты счастлив с ними?
— Зачем ты спрашиваешь это? — ответил он, краснея оттого, что он, в сущности, говорил ей, как он живет с семьей.
— Я думала, ты приехал ко мне и хочешь сказать что-то, — сказала она. — Говори, что же ты? Говори. Мне не перед кем краснеть, я одна. С твоим сыном. С Юрием, — добавила она.
— Как одна? — переспросил Лукин.
— Так. Одна. С Арсением разошлась. — Она ближе подошла к Лукину, вглядываясь в него. — А Юра весь в тебя, весь до черточки, — сказала она.
Точно так же, как игрок, держащий в руках козырной туз, в нужный момент бросает его на стол и выигрывает партию, Галина вдруг поняла, что козырным тузом у нее в ее теперешнем сложном деле был ее сын, Юрий. Она сейчас же почувствовала, что из всех прежних нитей, связывавших Лукина с ней, прочнее всех была именно эта — сын. Она только что в этот день видела сына, и впечатление, оставшееся от встречи с ним, давало ей основание с гордостью теперь думать о нем. «Да, я помню, ты хотел помочь мне воспитать его, но я не приняла твоей помощи и воспитала сама, и, как увидишь, неплохо» — выражали ее глаза, в то время как она смотрела на Лукина. Она не хотела знать, что то, что она делала — разбивала чужую семью, — имело определенное название и осуждалось людьми; ей важно было, что она имела право на Лукина, и этого было достаточно для нее, чтобы держаться уверенно и отстаивать свое право. Все лежавшее между тем днем, когда она не попрощавшись уехала от Лукина в Москву, и этим, когда стояла теперь перед ним, — все представлялось ей таким незначительным, что она удивилась бы, если бы вдруг сказали, что надо в чем-то простить ее; она только стремилась к лучшему, и если он не понял этого тогда, то хотя бы должен понять ее теперь; и она смотрела на Лукина с той лучезарной ясностью, как будто лишь хотела слегка упрекнуть, что как это он не может увидеть того, что очевидно и просто ей и всем остальным.
— Было трудно, ты, наверное, слышал, было не так все просто. — Она продолжала как будто о сыне, но говорила уже и о себе, давая понять Лукину, что то, что связано с сыном (со сложностями его воспитания), связано с ней и неотделимо от нее. — Мальчики всегда трудно растут, особенно если они характером в отца.
— Ты считаешь?..
— Да, да, не легкий, — сейчас же перебила она, продолжая еще говорить наступательно с ним, но уже чувствуя, что наступательность была на грани, что надо переменить тон, сказать что-то такое, что приоткрыло бы перед Лукиным тот край занавески, за которым он увидел бы, что она упрекает только потому, что любит его, и что если бы все обстояло иначе, не было бы теперь между ними этого прямого и откровенного разговора. — Не легкий, — повторила она, — но я не сказала: плохой! Я этого не сказала. Боже мой, о чем мы с тобой говорим, боже, о чем говорим?! — И, поймав взгляд Лукина, всем своим душевным беспокойством вдруг поняла, что она близка к цели.
Цель ее была — вернуть к себе Лукина и решить таким образом те свои проблемы, от которых, ей казалось, она уже устала в жизни. Цель ее была — устроить свое благополучие. Но вместе со всем этим простым, ясным и очевидным, чего хотела добиться она (и что шло от разума, а не увлеченности, как это бывало в молодости), она чувствовала, что Лукин был тем единственным человеком, с кем возможно было ее счастье. Все прежние представления ее о совершенстве мужчины, когда она то искала глубины духовного мира в будущем своем муже, то, напротив, считала, что и умение подать себя есть тоже проявление культуры, — все ее представления о совершенстве были теперь соединены в Лукине, и она с замиранием думала, как она раньше не разглядела в нем этого и оттолкнула от себя. «Дурой была, какой была дурой!» — повторила она слова отчима, сказанные ей тогда в раздражении. Опа как будто смотрела сейчас только в глаза Лукину: но она видела все молодое, с деревенским загаром лицо его, говорившее ей о здоровье и силе, видела расстегнутый воротник рубашки, расслабленный галстук и видела руки, которые он держал сложенными так, будто радостно удивлялся чему-то и, не имея возможности сказать о своем удивлении, жестом выражал его. И жест этот так о многом говорил Галине, что ей казалось, будто она снова была молодой, красивой и что, главное, не только она, по что это видит и признает в ней Лукин. «Боже мой, я все сделаю, все, все, на все готова, лишь бы только быть с ним и видеть его», — торопливо думала она, выдавая лицом эту пробудившуюся в ней силу к жизни.
— Я хочу сказать тебе, чтобы ты знал: я очень жалею о прошлом, — сказала она.
— Я знал это.
— Ты знал?!
— Да.
— Но ты-то, ты?..
— Я тоже очень жалел. Жалел, — повторил Лукин, стараясь подчеркнуть, что все было в прошлом, в то время как глаза его, смотревшие на Галину, говорили другое, что он жалеет обо всем и теперь и только в силу определенных обстоятельств (какие должны быть понятны Галине) не может сказать ей этого.
«Да говори же, говори», — взглядом просила Галина.
Она торопила события и готова была шепнуть ему, что он должен сказать ей; но за спиной ее тяжело заворочался в кресле отчим, и она и Лукин тут же вместе оглянулись на него. Для Галины это сонное движение отчима было равнозначно тому, что перед глазами ее был разрушен дом, так красиво и добротно построенный ею, и на лице ее не то чтобы отразилось недовольство, но вспыхнуло что-то злое, относившееся к старику: что она не забудет и не простит ему этого. Для Лукина же сонное движение старика имело совсем иное значение и произвело то отрезвляющее действие, как если бы на него вылили ведро холодной воды. Он вдруг увидел, что он был не один с Галиной и что все сказанное им и ею (и еще более — не сказанное, но что, казалось ему, было сказанным) было услышано бывшим тестем и определенным образом воспринято им. Лукин вдруг как-бы со стороны увидел всю двойственность своего положения и ужаснулся тому, что он делал. Он вспомнил о Зине, о дочерях, как они провожали его в эту поездку по району и как Зина, поправляя на груди его галстук, говорила: «Следи за собой, знаешь, как люди сейчас внимательны, все замечают», — и будничный голос ее, будничное выражение лица (как смотрят обычно замужние женщины, убежденные в верности своего мужа) — все, все это, так живо вспомнившееся ему, неприятно, тяжело, грузом опустилось на душу. «Что я делаю? Я хочу освободиться от нее? Уйти, бросить, как тот хозяин свою собачонку…» — подумал он о Зине. Он знал, что, если уйдет от нее, она не поймет, почему он сделал это; он представил себе состояние Зины и мучительно понял, что не сможет причинить ей эту боль. «В чем она виновата? Почему я должен так поступить с ней?» Он продолжал еще как будто смотреть на старика Сухогрудова, ворочавшегося в кресле, но видел перед собой спокойное, будничное лицо Зины, в котором, он находил теперь, было что-то такое для него, чего не хотелось терять ему. «Нет, нет, это нехорошо, что я делаю. Я не должен делать этого», — снова подумал он, уже отвернувшись от Сухогрудова и глядя в окно. Галина стояла рядом, и он слышал, как она дышит; но прежнего желания повернуться к ней и посмотреть на нее у Лукина не было; не было ни палубы, ни музыки, ни всей той воображенной жизни, к которой еще минуту назад так хотелось прикоснуться ему; все было разбито, развалено, приглушено, и он только болезненно пытался вспомнить, что еще нужно было ему спросить у Галины. Он, в сущности, не поговорил с ней о сыне и не увидел его; но он не мог вспомнить этого и, сознавая лишь, что нельзя больше оставаться здесь, что надо идти, думал, как было удобнее сделать это.
— Да мне пора, — сказал он, как-то вдруг, сразу взглянув на часы и повернувшись к Галине. — Да, да, пора, — подтвердил он, видя, как она странно посмотрела на него.
— Так быстро? Мы еще ни о чем не успели поговорить с тобой.
— О чем говорить, Галя, когда все в прошлом.
— В прошлом?!
— Да.
— Ты считаешь, все в прошлом? — переспросила она. Ей надо было сказать что-то другое, но она забыла, что у нее есть козырной туз — сын! — и что самый момент теперь пустить его в дело, и только смотрела на Лукина своими еще ясными, еще переполненными надежд глазами и умоляла остаться его.
— Нет, нет, не могу, — отвечая не на тот вопрос, какой она задала, а на тот, какой он читал в ее взгляде, поспешно проговорил Лукин. — Я действительно не могу, Галя, ты извини, — затем сказал он, желая успокоить ее. Он взял ее руку, чтобы попрощаться, и задержал ее. — Ты извини, так будет лучше. — И то, чего он не мог высказать словами, он старался пожатием руки передать ей.





