Годы без войны. Том 2
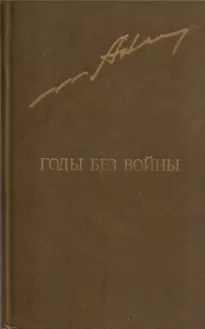
- Автор: Анатолий Ананьев
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 1982
Читать книгу "Годы без войны. Том 2"
XVIII
Галина отправлялась в Мценск устроить свое благополучие. Как всегда, когда она затевала что-либо новое в налаживании своей семейной жизни, она бывала убеждена, что только это повое и может принести ей успокоение и счастье, и все в ней начинало подчиняться не разуму, а чувству, подсказывавшему ей, как надо вести себя; с ней и теперь как будто происходило только то, что не раз уже бывало с ней; но вместе с тем она отчетливо сознавала, что на этот раз все было для нее по-другому, было тем главным, к чему она стремилась всю жизнь и что невозможно было сейчас упустить ей. Лукин оставил у нее впечатление красивого и умного мужчины, каким она не думала увидеть его; и она была удивлена этим и снова влюблена в него. В воображении ее повторялись подробности ее встречи и разговора с ним — те подробности (как он, прощаясь, задержал ее руку), из которых она могла делать лишь тот вывод, что еще имела власть над ним и что надо воспользоваться ей этой властью. Она думала только вернуть себе своего мужа, и возможность этого счастья, казавшегося близким ей, заслоняла в ней все иные мысли о возможном несчастье другой семьи; в ней независимо от нее просыпалось и брало верх то эгоистическое начало, когда, как это бывает в таких случаях у большинства людей, кажется, что то, что хорошо для меня, непременно должно быть хорошо и для других, и Галина, подчиняясь лишь этому естественному в ней теперь чувству (чувству сохранения жизни), искренне полагала, что то, что она делала, было не только справедливо и нужно ей, но справедливо и нужно для общей вокруг жизни. «Я пошла не по той дороге, но я вернулась и хочу идти по той, по которой положено мне идти, так что же осудительного может быть здесь?» — как будто говорила она себе, в то время как мысль эта было теперешнее состояние ее души. Она радовалась тому, что происходило с ней, но вместе с тем была так серьезна, как не бывала никогда прежде. Лицо ее как будто проигрывало от этой серьезности, но вместе с тем в это новое выражение ее лица вплетались те черточки, которые сейчас же говорили о целостности и основательности ее намерений; и вся красота ее была уже не в том, как она одета и как выглядят ее светлые волосы, модным полукружьем спадавшие к плечам, а в глубине и чистоте того чувства, какое она так бережно несла теперь Лукину.
Она приехала в Мценск под вечер и через час уже сидела в приемной Лукина, дожидаясь, пока он останется один и можно будет войти к нему.
Она не знала, что скажет ему, и не думала, что как только он увидит ее, все тут же решится между ними; ей только хотелось, чтобы все сейчас же решилось, и она была так убеждена, что невозможно отвергнуть то, что она испытывала к нему, что она слышала, как билось ее сердце, как будто то, что не раз бывало с ней в молодости, с какою-то обновленною силой повторялось в ней теперь и волновало ее. «Да что же все так тянется? — недоумевала она. — Разве он не знает, что я здесь? Он знает, он же знает, как он может?!». И она недовольно оглядывала тех, кто входил к Лукину и выходил от него. Она ненавидела всех этих людей, которые, казалось ей, отнимали у нее счастье и мешали ей соединиться с Лукиным; но когда секретарь наконец сказал ей, что она может войти, она вдруг почувствовала, что ей трудно сделать это, что между ней и Лукиным есть другая преграда (есть ее московская жизнь!), которую не так-то просто было забыть и отбросить ей. Как я могла вообразить?!
Как он может простить мне?!» Но секретарь, стоявший у приоткрытых дверей, ждал, чтобы она вошла, и она, невольно уже подчиняясь этому его молчаливому приглашению, поднялась и пошла, неслышно для себя ступая онемевшими ногами по жесткому паркетному полу приемной и кабинета.
Внимание ее было так напряжено, что сколько она потом ни пыталась вспомнить, что было с ней в эти первые минуты, когда она вошла к Лукину, она с удивлением отмечала, что в памяти ее был провал и вместо подробностей — что сказала она, что ответил он и как затем усадил в кресло и сам сел напротив нее, — вместо этих подробностей возникало только ощущение, будто она пережила тогда самые тяжелые и лучшие минуты своей жизни. В то время как она чувствовала, что не могла жить без Лукина, и понимала, что была виновата перед ним; в то время как ей очевидна была вся невозможность того, что так хотелось, чтобы было возможным, и она сознавала, что нельзя было ей приезжать сюда; в то время как в душе ее шла эта работа мысли и сердца, наполнявшая ее силой, какую принято называть любовью, но какая воспринималась ею только как страх перед тем, что то, что она несла, могло быть не принято и разбито, — вся эта борьба желаний и страха, сковывавшая ее в словах и движениях, так щедро излучалась из ее глаз и от всего вспыхнувшего лица, что нельзя было не заметить этого ее волнения, которое должно было многое сказать Лукину. Он сейчас же почувствовал в ней то, что всегда прежде любил в ней, — ту ее взрывную энергию, у которой не было конца, а было лишь постоянно возобновлявшееся начало; было то, что в народе называют пустым звоном, но что для Лукина, помнившего только, как шумно Галина начинала все, и не помнившего, что из всех ее начинаний ничего не было доведено ею до конца, для Лукина было наполнено значением красоты и одухотворенности жизни. Он слушал Галину и смотрел на нее, не отводя глаз, словно боялся, что больше не увидит ее; и в то время как она говорила ему о сыне (ту правду, какую и сама не знала, как решилась рассказать ему), смысл ее слов почти не доходил до него; с ним происходило точно то же, что и в Поляновке, когда он вдруг узнал, что увидит ее, и он точно так же не мог сосредоточиться сейчас ни на чем, кроме того, что он понимал только, что она здесь. Он опять чувствовал в ней частицу той деятельной столичной жизни, какой всегда не хватало ему; и хотя в рассказе Галины жизнь та не содержала как будто ничего деятельного и тем более возвышенного, что непременно будто должно содержаться в ней по представлениям всякого отдаленно живущего от Москвы человека (была только жалкая история с Юрием!), Лукину казалось, что между тем, что Галина рассказывала, и тем, что он всегда думал о ее столичной жизни, не было и не могло быть связи. То, что она говорила, было неприятно и грустно; но то, что он воображенью видел в ней, было светло, ясно и притягивало его. Перед ним как будто открывалась какая-то новая перспектива жизни, невольно связывавшаяся им с возможностью проявить себя, на работе; но чувство, какое он испытывал при этом, было чувство прыгуна, затоптавшегося перед планкой, которую подняли так высоко, что он знал, что не преодолеет ее, но от которой уже не мог отойти, не совершив попытки, потому что все (все — была для него Галина) смотрят и ждут, чтобы он разбежался и прыгнул.
«Да, да, я всегда чувствовал, что было что-то нехорошо с сыном», — думал он, в то время как Галина продолжала говорить ему.
Она не знала, почему заговорила с ним о сыне, и не думала, что надо было ей именно теперь бросить на стол свой главный козырь, чтобы выиграть партию; но она сделала именно это, что не решилась сделать в Поляновке, и чем дольше и правдивее теперь говорила о сыне, тем свободнее чувствовала себя перед Лукиным. Она говорила о том, что волновало ее, не заботясь как будто, какое впечатление произведет это на Лукина; но в то время как она рассказывала о проделках Юрия, она говорила и о себе, сколько пришлось перенести ей, и роль страдалицы, в какую невольно облекала себя, была для нее, и она видела это, выигрышной, потому что оправдывала ее. Она заметила в глазах Лукина сочувствие и воспринимала это его сочувствие как мостик, по которому пролегала ее дорога к нему, и всеми силами старалась укрепить этот мостик и говорила, говорила, боясь, что, как только остановится, все сейчас же рухнет и у нее уже не останется больше надежд на него.
— Ты не можешь представить себе, как я намучилась с ним, — то и дело повторяла она с той естественностью, как-будто и в самом деле разговор шел не о Юрии, а о ней. — А что было этой весной? Ты думаешь, почему я здесь? Почему я приехала сюда? — И после этих вопросов, которые, казалось ей, уже сами по себе означали многое, она пересказала Лукину ту историю с холодильником, арестом и осуждением Юрия (и с угрозой высылки его из Москвы за тунеядство), весь ужас которой, как можно было понять из ее слов, состоял не столько в том, что что-то неладное случилось с Юрием и что надо что-то срочное предпринять, чтобы помочь парню исправиться, сколько в том, как невыносимо болезненно было пережить ей это. И если бы Лукин не был возбужден и слушал Галину, из ее рассказа он сделал бы только тот вывод, что она не знает ничего о своем сыне.
— Когда же все это началось с ним? — спросил он, полагая, что он пропустил то важное, что надо было понять ему.
— Не знаю, Ваня, не знаю, — сейчас же откровенно ответила она. — Я все делала, чтобы он учился, рос, а получилось… я не знаю, у меня нет слов. Ни сил, ни слов, ничего.
— Да, я понимаю, — сказал Лукин. — Но почему ты не написала мне об этом раньше?
— Как же я могла тебе написать?! — удивленно переспросила Галина.
Она невольно задала тот главный вопрос, который для Лукина означал, что у него семья и что если бы не было у него семьи и он был бы так же свободен, как она, то она непременно написала бы ему и позвала его. Он понял это по выражению ее глаз, тону голоса, по всему ее напряженному виду, как она посмотрела на него, и покраснел, будто и в самом деле был в чем-то виноват перед ней. «Да, но я бы объяснил все Зине, она бы поняла все», — сейчас же про себя решил он. Но он только сильнее покраснел, зная, что не смог бы ничего объяснить жене. Не находя, что ответить Галине, он встал и озадаченно прошелся по кабинету. То, что в течение многих лет представлялось ему вполне совместимым — возможность быть одинаковым к дочерям и к сыну, — он увидел теперь, что было не только несовместимым, но были две совершенно разные семьи, требовавшие каждая, чтобы он либо принадлежал весь, либо уходил и не прикасался ни к чему. Он вдруг ясно понял, что он должен сделать выбор между нынешней своей женой и Галиной, и чувствовал, что это было нехорошо и не в его силах и что точно так же, как жалко ему Галину и сына, жалко Зинаиду и дочерей, которых он не мог подумать, как бы он бросил теперь. По чувству, какое поднималось в нем, он тянулся к Галине; но по разуму (по тому последствию, что могло разразиться, если он бросит семью), по разуму он не мог разрешить себе этого, что хотелось ему. Он считал, что надо прервать теперь разговор с Галиной; но, остановившись перед ней, сказал не то, что могло прервать этот разговор, а другое, что могло только продолжить его.
— Так он в Курчавине сейчас? — спросил он.
— Да, — ответила Галина, которой передавались волнение и нерешительность Лукина.
— Это, конечно, не выход.
— Но хоть что-то.
— Нет, это не выход, — повторил он. — Надо подумать, как помочь ему. — Но он не знал, чем он мог помочь Юрию, и снова зашагал по кабинету, заставляя себя думать о сыне, но думая о своем, что должен сделать выбор, но что это нехорошо и что было бы лучше, если бы никакого выбора не стояло перед ним.





