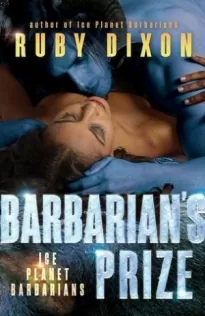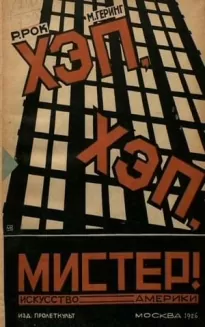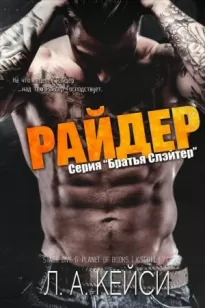Любовь и сон

- Автор: Джон Краули
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 2008
Читать книгу "Любовь и сон"
Глава третья
Люди не всегда понимают, что живут в переломную эпоху, когда Время в задумчивости замирает у перекрестка, не зная, какую дорогу выбрать, но обитатели Британии и Европы конца шестнадцатого века не сомневались, что перемена близка.
В последние годы той эпохи случилась остановка или пауза — затишьем ее не назовешь — после ста лет войны, в которой разрушался христианский мир Европы. Оружие было сложено, однако война не закончилась; чем дольше она таилась, тем ужасней становилась, как дракон, залегший на своем сокровище; стороны стремились найти окончательные решения распрей, люди уже не могли жить, если это значило, что они дают жить другим. Даже те, кто страстно жаждал мира и милосердия, думали не просто о мире, но о Совершенном Мире,[222] не о реформации, но о Всеобщей Реформации Всей Видимой Вселенной.[223]
Около четырех столетий спустя, в двадцатом веке — уже иного мира, — пришло время, которое для тех, кто обитал в нем, было подобно веку шестнадцатому. Время, когда одна война уже закончилась, оставив после себя помимо миллионов смертей чувство глубокого разочарования, память о непростительных ошибках и страстное стремление к окончательным решениям. Все, что ненавидели и на что надеялись приверженцы христианской секты, уже не будет иметь особого значения — по крайней мере, особого вреда не причинит: появятся новые надежды, гораздо худшие и гораздо лучше вооруженные. Тогда, как и сейчас (сейчас — в июне 1583 года, благословенным ясным утром), люди или думать не хотели о новой войне, или не могли думать о чем-либо еще. Тогда, как и сейчас, были люди, ко всему ироничные, люди жизнерадостные, которым ничто человеческое не чуждо и не удивительно; они были уверены, что скромный скептицизм вернее приведет к истине, чем ярая самоуверенность; но вскоре, в годы, что быстро надвигались, все они будут избавлены от свободомыслия и вынуждены принять ту или иную сторону.
Таким человеком был сэр Филип Сидни: протестант, рыцарь, поэт, придворный. Он родился католиком, во время правления королевы Марии Тюдор; сам король испанский, муж Марии, первый католик мира, был его крестным отцом и от имени маленького Филипа отрекся от сатаны, и от всех дел его, и от гордыни его — о чем Сидни рассказывал с открытой, радостной улыбкой, согревая сердца своих слушателей, но не раскрывая собственного сердца и даже не показывая, таится ли там хоть что-нибудь.
Истории известно, что в то утро он уже был приговорен к смерти — на лугу в Нидерландах,[224] во время одной из тех маленьких войн, что не позволяют зарасти язвам, кровоточащим вплоть до прободения, — но он не знал этого. Он скакал вверх по течению Темзы к Оксфордскому университету, сопровождая гостя, польского магната, который находился на попечении посольства Франции. Позади ехал слуга Сидни, молодой шотландец, которого цель путешествия невесть почему приводила в восторг. Официально сэр Филип отвечал за развлечения поляка в Оксфорде, но сэр Фрэнсис Уолсингем также поручил ему по возможности разузнать, какими же полномочиями наделен князь, а также степень его влияния на короля;[225] никто не знал толком, что он из себя представляет. Но сейчас Сидни об этом не думал. Размышлял же он о католиках, Атлантиде и о своем браке.
Два джентльмена, сэр Джордж Пекхем и сэр Томас Джерард (обличенный нонконформист[226] и папист), предложили план, который мог бы помочь установлению в Англии мира — по крайней мере, способствовать защите от внутренних врагов и справедливости по отношению к уязвленным приверженцам старой религии. Сэр Фрэнсис Уолсингем, государственный секретарь ее величества (и будущий тесть сэра Филипа Сидни), проявил интерес к этому проекту; его не переставала беспокоить проблема английских католиков. Пекхем и Джерард предлагали отдать в собственность католикам землю в Новом Свете, даруя полную свободу жизни и вероисповедания, при условии, что они никогда не вернутся в Англию. Чем больше сэр Филип Сидни думал об этом, тем более уверялся в том, что план справедлив, надежен и прост. Молод еще был.
Не прошло и двух месяцев, как сэр Хамфри Гилберт[227] отправился на Запад со своим флотом. Сердцем Сидни был с ними: он сам хотел бы отбыть. Но этим летом он собирался жениться — а это несколько иное путешествие. Великодушный Гилберт подарил своему другу, сэру Филипу Сидни, доход от миллиона акров в Новом Свете, на которые он собирается предъявить права; Сидни, в свою очередь, передал половину сэру Джорджу Пекхему для его католической колонии в Атлантиде.
Атлантида: иной, зеркальный берег Атлантики. Джон Ди, всегда так его и называвший, снабдил Гилберта картами и советом; за его поддержку и неисчерпаемый энтузиазм Гилберт даровал Ди патент на все земли, открытые экспедицией выше пятидесятой параллели.[228]
Сэр Филип Сидни засмеялся при мысли об этом: его старый наставник — правитель in absentia[229] герцогства, размерами превышающего Англию. Александр Диксон, ехавший подле, улыбнулся вопросительно.
«Славный день, неплохо бы провести его где-нибудь в другом месте», — сказал рыцарь.
«Славный день, сэр».
«Я думал о Гилберте», — продолжал Сидни.
«Да».
Доктору бы поехать с Гилбертом, думал Сидни, воображая, как белую бороду старика ерошит ветер новооткрытой земли, «Нью-фаундленда»: он ступил бы на берег подобно Мадоку, валлийскому гиганту, пращуру Ди,[230] о котором старый ученый ему рассказывал. Сим лорд Мадок, валлийский прародитель королевы Елизаветы, заявил о своих правах на Атлантиду, и так же поступила ее славное величество; Сидни представил, как дикари коронуют Елизавету и возводят на престол Заката.
«Мы опередили наших гостей, — сказал он Диксону. — Остановимся».
Диксон резко натянул поводья взятого напрокат норовистого конька.
«Погоди, — сказал он. — Погоди».
Стоило князю Аласко обернуться, маленький, одетый в шерстяную мантию человек оказывался чуть ближе, неспешно обгоняя прочих всадников. Он ничем не привлекал к себе внимания, разве что медленным приближением к фургону; но как только князь оглядывался назад, он ловил на себе искренний взгляд и странно напряженную улыбку.
«По прибытии к воротам Университета, — продолжал его слуга. — Oratio[231] декана Крайстчерча — это название колледжа. Музыкальный концерт, фейерверк. Дары».
«Хорошо», — ответил князь.
«На другой день — богослужение в честь вашей светлости. Exercitiones.[232] Обед». «М-м», — ответил князь.
«После обеда — диспут у Святой Марии.[233] Богословский колледж. Юриспруденция. Медицина. Натуральная и моральная философия».
«Хорошо», — ответил князь.
И снова обернулся, чтобы взглянуть на кавалькаду всадников, рыцарей, охраны, проводников и пеших слуг. Человек в мантии был еще ближе к экипажу.
«На другой день…»
«Достаточно, — сказал князь. — Очень любезно с их стороны».
Князь а Ласко, воевода Серадза, что в Польше, принял оказанную ему честь с тем большей благодарностью, что был обязан ею самой королеве. Он оказался в непростом положении. Если звезды не будут благосклонны, Альберт Аласкус еще не скоро вернется в Польшу; что добрая королева, несомненно, считала даром, который сделает князя ее верным союзником, для Альбрехта Ласки было подмогой его грядущим притязаниям на родине. Но все это не важно; герцог Ласки (никто не был уверен, как же правильно именовать его и каков его титул) завоевал благосклонность окружающих своей любезностью, чудными польскими манерами, широтой познаний и щедростью сердца. У него была великолепная белая борода — щеки заросли почти до самых глаз, — и, отходя ко сну, он расправлял ее поверх одеяла, немало забавляя тем слуг.
«Кто этот господин на белом муле? — спросил он секретаря. — Мы представлены?»
«Итальянец, — ответил секретарь (который и сам был итальянцем). — Состоит на службе у французского посла. Он передавал вашей светлости приветствия посла. Если ваша светлость помнит».
«Хм».
«Он едет на диспут».
«Хм, — ответил пфальцграф. — А посадка у него, как у монаха. Странно».
Его внимание привлек хозяин и проводник, сэр Филип Сидни, который остановился, ожидая, когда экипаж поравняется с его лошадью в голубой попоне.
«Великолепно! — воскликнул поляк, раскрыв объятия дню и реке. — Я искренне тронут».
Был чудесный летний день — в этой стране такой наступает лишь раз в году, да и то если повезет, — день, с описания которого поэты былых дней начинали свои повести: трава высока, розы цветут, покачивая бутонами, ветерок мягко овевает лицо, и spiritus почти осязаем, почти слышен, подобно тому, как слышна бывает симфония ветров. И земля вокруг вовсе не великолепна, но мала, — малой казалась она ему, как сцена из часослова: работают люди, вьется дорога, меж холмами виден замок или большой дом, построенный в английской манере — из грязи и веток. Он подумал о своей стране.
«За следующим изгибом реки, — сказал рыцарь, наклонившись к карете Аласко, — мы увидим ричмондский замок королевы. Она предпочитает его всем остальным».
«А вон те поля вдоль реки и дом?»
«Это Барн-Элмс. Его строит сэр Фрэнсис Уолсингем. Милорд охвачен строительной лихорадкой».
Он внимательно рассматривал далекий берег, даже не надеясь увидеть дочь министра, на которой женится к концу лета.
«Значит, — сказал князь, — вон тот город — Мортлейк».
«Да, Мортлейк, как раз между королевой и ее секретарем».
«Я посещал его. Там живет единственный человек вашего королевства, которого я твердо намерен был разыскать. Королева хорошо его знает и милостиво послала меня к нему».
«Я знаю, о ком вы говорите», — сказал сэр Филип.
«Доктор Ди. Весть о его славе добралась даже до моей страны».
«Он много путешествовал».
«Меня приняли там очень гостеприимно, — сказал князь[234] почти с благоговением, как будто удивляясь, что его вообще впустили. — Он живет очень просто. Но сам ли он выбрал такую жизнь?»
Рыцарь ничего не ответил.
«Не без чести, разве только в отечестве своем.[235] Вот что я подумал».
«Я воздаю ему всю мыслимую честь. Когда я был ребенком, он наставлял меня».
Поляк по-новому и с уважением взглянул на сэра Филипа, на его лице читались великодушные слова: чем больше узнаю вас, тем больше вам доверяю. Затем он снова посмотрел на далекий берег, будто желая оказаться там, а не здесь; и вздрогнул, когда секретарь дернул его за рукав. Обернувшись, Ласки увидел, что секретарь, чуть ли не извиняясь, указывает на человека, подъехавшего на белом муле.
«Позвольте мне представить вашей светлости синьора доктора Джордано Бруно Ноланца, философа и моего соотечественника».
«Философ», — повторил Ласки и слегка приподнял свою шляпу.
«Я горжусь, — сказал по-латыни мужчина, — именем, которое столь многие запятнали».[236]
«Философия — это шит, не запятнанный временем, — по-латыни ответил герцог. И продолжил, по-итальянски: — Если мы сбросим наши одежды и поплывем к тому берегу, то найдем вон в том доме больше философии, чем в университете, к которому движемся столь неторопливо».
Он взглянул на сэра Филипа, опасаясь, что оскорбил его чувства (конечно же, рыцарь знал итальянский, человеку, хоть сколько-нибудь благородному, не пристало в наши дни быть несведущим в итальянском), и увидел, что на его лице играет добрая, даже удивленная улыбка. Он смотрел не на герцога Ласки, а на нового философа. Ехавший рядом Александр Диксон невольно пришпорил своего норовистого коня и чуть было не оказался на земле.