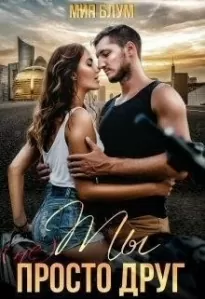Как трудно оторваться от зеркал...

- Автор: Ирина Полянская
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 2019
Читать книгу "Как трудно оторваться от зеркал..."
Твой Чижик
Прозвучали жирные шлепки босых ног, как отзвук далеких аплодисментов, и он восстал в проеме двери с колышущимся от наигранного негодования животом, интересы которого явился защищать.
— Это ты мне поставила кабачковую икру? — Уличающий жест в сторону жены.
— Начинается, — проронила она.
— Мне, я тебя спрашиваю? Я что — за свою жизнь не заработал себе на черную?
— Чем плоха кабачковая?
— А чем она хороша?
— Все ж едят.
— Вот все пусть и едят. Пусть они вот, — он подходит к окну и жестом римлянина, обрекающего на смерть гладиатора, указывает большим пальцем вниз, — они пусть жрут твои кабачки.
— Ладно, заткнись, развыступался. Пошел бы поработал во дворе на субботнике, вон люди кусты сажают.
— Плевать я хотел на твоих людей и на ихние кусты, — немедленно отвечает он и действительно плюет в раскрытое окно сильной, сварившейся от ненависти слюной, и попадает в середину клумбы. Цветы, не успевшие увернуться, жухнут, сворачиваются, уходят под землю. — Чихать я на всех хотел, вот так — апчхи! — но чихнуть ему не удается, и это продлевает жизнь выжженной посередине клумбе, юной зелени тополей, сомкнувшейся над нею.
— Ладно, расплевался. Иди отсюда и ешь свою икру, она в поддоне.
— Правильно. И съем. И впредь буду есть только черную икру и запивать холодным немецким пивом.
Не понимаю, зачем он старается вызвать к себе чувство, которое вызывает. Он видит его в моих глазах и в глазах жены и потирает руки от радости, потому что в доме он хозяин, чтоб все понимали: хочу — хожу босой, хочу — голый, и плевать мне на всех вас. И никто не может запретить мне выжигать вас своей ядовитой слюной.
Он отправляется на кухню, открывает холодильник, берет початую баночку икры, ложку, табурет и снова возвращается к нам. Табурет он ставит в дверном проеме, садится, принимается за икру и, торжествуя, смотрит на нас, приговоренных к этому зрелищу. Поев, он ставит банку на трюмо, сгребает в ладонь французские духи, неторопливо открывает флакон, подымает над головой и переворачивает. Духи капают на его плешь, текут по лицу, и по комнате плывет удушающий запах черной икры.
— Молчи, — тихо говорит мне его жена, — хуже будет.
Так мы сидим, точно заплатили за представление огромные деньги, прикованные им, и молчим, и смотрим безучастно, чтобы не раззадорить его еще больше, и нет на свете таких духов, могущих отбить этот упорный, сытый запах убитой во младенчестве рыбы. Утопив свою ярость в нескольких каплях духов, он уходит на кухню, рыщет в холодильнике, залезает в него с головой, снует по полкам, склоняется над лежащей на блюде, как одалиска, перламутровой розовой севрюгой, подмигивает батону колбасы, хлопочет над маслиной, но нет яства, могущего утолить его голод, и он несчастен. Подсоединяет к своей глотке алюминиевую пивную баночку, и пиво с бульканьем обрушивается в его заранее утомленный желудок. Ни устрицы в вине, ни цыплята табака, ни поросенок с хреном не приносят душе утешения. Он распинает на сковородке кусок мяса, склоняется над ним в ребяческой заботе: отбивная ответно зажмуривается, заходясь от жаркого восторга, брызжет кровью в лицо.
Поев, он появляется с куском черного бархата и бросает его передо мной.
— Купи.
— Да убери ты! — вопит его жена.
— По двадцать рублей метр, тут два.
— Спасибо, мне не надо.
— Бери по пятнадцать.
— Спасибо, нет.
— Ну и дура, — обижается он. — Бархат сейчас — самый писк, его нигде не достать. Давай по десять.
— Отвяжись ты от нее, — снова выкрикивает жена.
— Ну давай за весь кусок десятку, только шустро, мне уходить надо. — Он несколько секунд стоит с протянутой рукой, а мы с его женой отворачиваемся. Наконец он убирает руку и бархат.
— Вот гнида, — тихо удивляется его жена, — и как его еще держат на работе, ворюгу. Избавиться от него никак не могут.
Через некоторое время он снова появляется перед нами в синем велюровом костюме, в мягких кожаных туфлях, белой французской рубашке, в фирменной кепке с козырьком — в этом костюме он исполняет роль фата. Приветственно поднимает руку:
— Девочки! Я пошел!
Он втискивается в лифт, и в который раз матерное слово, нацарапанное большими, как Ш и Б на таблице окулиста, буквами выпрыгивает перед ним. И не увернуться, оно написано на уровне лица, плюет жильцам в самые очи, это непотребное слово, вдолбленное на дюймовую глубину. Скоты, думает он, три месяца смотрят и хоть бы кто замазал. Никто себя не уважает, а, впрочем, и не за что. Огромное слово пристально, каждой отдельной буквой смотрит в лица невинных девушек, мечтательных отроков, малых деток. Огромное злое слово клеймит позором каждого, подымающегося вверх и низвергающегося вниз, отпечатывается на лбу, и некуда спрятать стесненных глаз, стой и читай иероглифы, таящие в себе куда более страшный смысл, чем буквальное их прочтение. И квохчет, бегая туда-сюда по вертикали, лифт, и вот опять снесся этой запекшейся на стене гадостью.
Куда лежит одинокий его путь? Расчищая себе дорогу раздражением и отвращением к ним, потным, спешащим, с сумками, с детьми, он плывет, как большой корабль, к автотрассе и одним движением брови примагничивает такси. Машина на всех парусах так и разлетелась к нему, велюровому. Он садится в такси и, поважнев, размышляет над своим образом, уже запечатленным в душе шофера, образом делового человека, известного в самых широких кругах, который и отдохнуть-то может себе позволить, лишь в такси едучи. Шоферская душа тает от почтения, потому что у шофера есть дочка, и она, такое совпадение, прямо бредит театром, так вот не может ли он — о, он может все, решительно! — ей семнадцать лет, хорошенькая, чем можем, отблагодарим, вы не сомневайтесь, замолвите словечко, вам это ничего не стоит, а для девочки вопрос жизни и смерти. Он ведет дочь шофера по знакомым коридорам театрального училища, и все расступаются перед ним, девочка трепетно дышит, директорская секретарша вскакивает, завидев его, взволнованно жмет на кнопку селектора, он входит в кабинет, рассеянно жмет руку директора и одновременно подталкивает на авансцену девчонку: «Способная, посмотри...» «С вас еще тридцать копеек», — сквозь зубы говорит шофер и показывает на счетчик. Он надевает очки и смотрит: верно, тридцать. «С десятки сдачу найдешь?» Шофер мотает головой и видит, что велюровый костюм на пассажире вдруг начинает лысеть, протираться, засаливаться, терять пуговицы, на лацкане мерцает жалостно какой-то глупый значок. Тридцать копеек набираются из меди, последняя, тридцатая, отыскивается в тупоносой тяжелой туфле. Шофер смотрит пассажиру вслед, а тот, кряхтя, поднимается по ступеням роскошного здания, помахивая свернутой в трубку газеткой „Культура“, открывает двери.
— Михайлыч, привет, — бодро говорит он гардеробщику.
— Здорово, — без воодушевления отвечает Михайлыч.
— Меня никто не спрашивал?
— Никто.
А мы с его женой в это время обнаруживаем, почему он так тепло и с ожившей надеждой на лице попрощался с нами. В коридоре на полу валяется моя раскрытая пустая сумочка. Его жена уныло спрашивает, сколько там было, я отвечаю, что была мелочь, и она успокаивается, ибо денег у нее нет.
Мы умолкаем, смотрим ему вслед, как он поднимается по лестнице, а спешащие туда-сюда люди не узнают его, а кто узнает, машинально сует ему руку, за которую он хватается с такой силой, точно хочет утопить человека. «Сегодня, — скажет он жене, — П-ов перехватил меня, два часа уговаривал снова начать с ним работу, с другим администратором у него то и дело накладки. Но я плевал на все это...» П-ов, высвободив руку, потом целый день ходит с ощущением, что она отсыхает, и говорит сам себе: «Так тебе и надо, лицемер, не жми руку всякой сволочи. Главное, чего разлетелся, он же теперь нуль, пустое место, от него ничего не зависит. А вот поди ж ты — рука сама из кармана выползла. Впрочем, сколько таких, с позволения сказать, рук ты пожимала на своем веку, бедная моя, вовек не отмыть. Тьфу, жалко, что тебя, мразь, пять лет тому назад не засудили, так бы и плюнул в твою хитрую рожу. Пошел небось путевку в Мисхор выбивать, лауреат фигов.
Гад!»
А гад опять стоит на балконе, подставив свой беременный черной икрой живот лучам заходящего солнца. Он смотрит во двор на все еще копошащихся с юными деревцами и лопатами людей внизу, и во рту снова собирается слюна бессильной ненависти. Но вдруг он вздрагивает, опасливо поднимает голову и смотрит вверх, не стоит ли кто над ним этажом выше, не копит ли слюну?
На всякий случай он поворачивается и уходит с балкона.
Я смотрю в его удаляющуюся спину, и мне хочется, пока он не ушел далеко, во сырую землю, посвистеть ему вслед и окликнуть: «Чижик!» Он медленно, не веря ушам своим, обернется, с его оплывшей физиономии слой за слоем начнут сползать, как прошлогодний слежавшийся снег, маски: животный страх, злоба, злокачественная опухоль зависти, полученные им плевки и пощечины, фарисейские улыбки и слезы унижения, чужой пот и собственное сало, из ушей, как гной, потечет ложь, которой он наслышался, язык окостенеет от лжи, которая стекала с него, и ему сделается жутко, как никогда в жизни, которая была у него, должно быть, страшнее, чем война, потому что не война, а мирная, теплая, сытая жизнь выплюнула этот сгусток яда, который почти полвека тому назад, будучи человеком, огрызком карандаша писал письмо моей маме:
«Дорогая сестричка! Мне трудно бросить сейчас свои мысли на бумагу. Я не могу говорить слов соболезнования тебе, потому что не хочу быть пошлым к памяти Ромы и потому, что смерть научила меня относиться к ней уже без слов. Она стала для меня обычным явлением. Каждая смерть встречается болью в душе, но мозг и сердце все больше мужают. Сердце уже закрылось броней против таких понятий, как жалостное отношение к врагу, из мозга выветрилось понятие — гуманность. Зверя надо уничтожать по-зверски. Если смерть пощадит меня, я не пощажу ни одной вражьей жизни. Среди врагов будут павшие в знак отомщения и памяти Ромы, который погиб, как настоящий мужчина. Я, лейтенант Чижов, обещаю тебе это. Пожелай успеха моему оружию.
Твой Чижик».