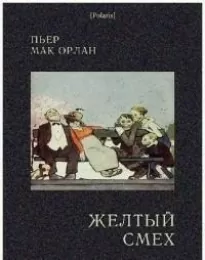Людоед
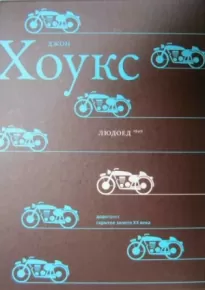
- Автор: Джон Хоукс
- Жанр: Зарубежная классическая проза
- Дата выхода: 2019
Читать книгу "Людоед"
Одна за другой ноги, слышала она, шаркают по гравию к двери в святилище, и по мере того, как каждая согбенная женщина вступала во тьму столетия покоя, звуки в саду стихали. Круг разматывался, покуда сестер милости более не оставалось, и ей становилось слышно, лишь как мычит обер-лейтенант, быстро расхаживая туда и сюда, заменяя характерный тон ересью и егозистостью. Ни одна птица нигде не пела, но маленький колокольчик созвякивал сестер к столу и благодаренью. Молитвы к вечерней трапезе разлетались по сырым оштукатуренным коридорам и возносились к ее неоскверненной келье.
Ютта с отвращением вспоминала дам в оперенных шляпках и бархатных платьях, со злобою вспоминала, как Стелла плыла по бальной зале, но мысль о покойных родителях, на столько лет перебравших со старостью, оставляла ее бесчувственной. Старые воспоминанья наставали, но коротко — так же кратко, как желание чем-то владеть или иметь черные брюки, и когда наставали они, она призывала свою гордость, дабы противостоять этим чарам.
Она слышала суповые ложки в мисках, быстрые шаги солдата.
Черные юбки натягивали ей на лодыжки длинные худые руки, немощные от недуга, что спокойно отъедал от кальция у нее в костях и запивал смиренномудрием из ее организма. И все ж не ведала она, что ее братья погибли с воем в отступлении, и лично для нее им всем туда и дорога. Миновали получасы, и небо становилось лазоревым, мазь лежала под подушкой, но ее достать Ютта не могла. Клонилась вперед, головой над коленями, и все эти усилия поддержать равновесие ушли на то, чтоб не опрокинуться черною кучей. Лодыжки теперь худы были, как запястья, недуг врезался глубже, и некому здесь посадить ее обратно, если упадет. Потому и сидела она тихонько, как только могла, худые пальцы крепко стиснуты от напряжения.
Отец, старый генерал, в те дни, когда мог еще разговаривать, а она — сидеть у него на коленях, желал, чтоб она заняла какую-нибудь гражданскую должность. Но с самого начала она решительно была архитектором — строила башни из кубиков и амбары из бумаги, возводила их там, где они едва могли стоять на толстых половиках, конструировала их с истинно детским упорством; и, когда работа завершалась, улыбка у нее возникала от достижения, а не от удовольствия. Становясь старше, она уже совсем не улыбалась и прятала свои странноватые углы и конструкции у себя в выбеленной комнатке, становилась все серьезней и серьезней, разумно противилась общественным документам и налогоплательщицей истории, какие подсовывал ей старый генерал. Тщательно сотворяла она себя вовнутрь, прочь от хохочущих женщин, гладко выбритых мужчин, подальше от нудных общественных обязанностей, покуда наконец не приняли ее одним прелым днем в Академию архитектуры.
Почти настало время Настоятельнице начинать свои обходы, наблюдать, поощрять и осуждать девушек, кто скверны были физически или скверны духовно.
Настоятельница становилась в дверях — лицо ни мужское, ни женское, — перекрывая последний клок солнца жестким веером чепца и облаченьем. Очки в стальной оправе, розовое лицо и колючие черные глазки — Ютта считала ее врачом, который ходит так медленно и остается, щупая, так надолго. Внизу, слышала она, обер-лейтенант тяжко садится на одну из скамей, и откуда-то дальше по коридору доносился шум старухи, которая наводила порядок на письменном столе Настоятельницы. Хотя никто в городе не знал даже даты или того, что происходит, ничего не ведал ни о блокаде на море, ни о боях в пустых лесах, Настоятельница — знала. Каждое утро после своих консультаций садилась она за стол и сочиняла — бисерным почерком — долгое трудоемкое письмо протеста Президенту Соединенных Штатов. Она возражала против голода и расползавшейся болезни. Темнело, и Ютта не могла пошевелиться, чтобы зажечь свечу.
В Академии Ютта часто видела, как молодые люди становятся в строй — туловища смуглы, серые гимнастические брюки в обтяжку. Поначалу они часто улыбались ей в холодных коридорах и заглядывали ей через плечо на чертежную доску. Теперь же все они, насколько она знала, обзавелись саблями и шпорами, как ее братья. Она завоевывала благосклонность своих преподавателей — ей не нужно было заставлять себя смотреть на них. Они ускользали из рук, и место их занимала долгая череда детских спален и крепостей.
Помимо измышленья новой триумфальной арки и царапанья твердыми карандашами по шлифовальной колодке, она изучала историю. Том за томом — под ее пристальным дисциплинированным приглядом. Знала она всех Хапсбургов, знала, что австрийцы и немцы — одной крови, знала, что свет и жизнь — они на Востоке. Ее порывы гнева прекратились, сабли не подворачивались больше под руку, но пригождались лишь, как и братья ее, в полях далеко отсюда.
Настоятельница поднималась по истертой лестнице, обер-лейтенант, опять у себя в комнате, вышагнул из брюк. Ютта ослабла, слабее стала, нежели прежде, а в городе полицейский убрал свой фонарь и бросил обход, дабы лечь спать.
Оставшееся уединение ее ухудшилось. Генерал не мог говорить, мать в его незаправленной постели была нелепа, Стелла вновь и вновь отлетала, покуда наконец не повстречалась с тем, у кого сморщенное личико, и не улетела насовсем. Никого не осталось, чтоб возносить ей здравые хвалы, некому восхищаться ее схемами механического ликованья или уважать их, никто не признает — даже в тринадцать — ее великое мастерство. Но не язык бессловесных, старых, превратил дни упадка в вероломство, а не торжество, не мертвые на улицах и не безмолвие в доме пригнали ее к монахиням.
Последней кляксою на отпущении грехов, лишившей ее жертвы и разумного страдания, была неприятная любовь Герты. Когда сперва открылись язвы и у нее начались приступы дурноты, старая дурища-нянька уложила ее в постель и, сама слишком старая для подобных усилий, карабкалась по громадной голой лестнице с подносами для немощной. Герта рассказывала ей сказки, сидела у кровати, возбужденная этой драмой — ей было теперь чем заняться, — и с нордической храбростью величественно заныривала в испакощенное постельное белье. А хуже всего — нянька излагала ей сотни историй о дамах и их возлюбленных, все время относясь к Ютте как к девочке и, мало того, — относясь к Ютте как к ребенку. В последний дождливый день, когда дитя едва смогло ходить, Герта настояла на том, чтобы тщательно одеть ее и получше закутать, привязала, ворча, ей к голове один из громадных материных капоров, дабы ее — недовольно — оберечь от ненастья. Именно от Гертиной заботы, перхающей привязанности и непростительной жалости прирожденный вождь нации жалко прозябал в женской обители. Как старая эта дура ластилась и пресмыкалась еще до сестер, кто, пусть и не так внешне утешительны, были — в итоге — труднее и цепче, кормясь со своих подопечных.
Величавая поступь приблизилась; исповеди бормотались совсем рядом — рукой подать.
Стоя совместно, точно послушные черные птицы внизу лестницы, головы склонены в безмолвном непреднамеренном уважении, сестры ждали, покуда Настоятельница не исчезнет вверх и прочь с глаз их, мучительно медленно и воинственно в причастии. Никогда, никогда не сумеет она ничего вылепить из этих девочек, не добьется ни кнутом, ни пряником, она сокрушалась по этому отребью, по никудышным детям женского разбора. Девочки ей не нравились. Настоятельница перевела дух, подтянулась и двинулась вперед сквозь общий удел загвоздок и отчаяний, невредимо переходя от кельи к келье.
Мир для Ютты тускнел, близился перелом, ее хватка на коленях была ненадежна и остра. Несла ль она за это ответственность или нет, но слабость у нее была — физическая и, быть может, неуправляемая, и оттого она себя чувствовала виновной в немощи, покуда кальций по каплям сочился вон из хладных породистых костей. И несмотря на ее похвальную натуру, на решимость ее, Настоятельницы она боялась по-настоящему. За всеми ее продуманными добрыми намерениями, за ее обожанием Востока и преклонением перед абстрактно взятыми людьми страх все равно оставался страх матери, боязнь воспитания, страх перед Высшим Настоянием. Из бункера истекал свет, делать больше не оставалось ничего — лишь ждать, пока не исчезнет окончательная непризнанная иллюзия, не о чем думать, некого не любить, нет и нужды любить кого бы то ни было. Бугорки у нее под пальцами, похожие на камешки, были тверды и грубы, волосы падали ей прямо на глаза.
— По правде я не хотела этого делать, Настоятельница, — голоса подбирались ближе краткими неприятными всхлипами, — как есть, мне никогда этого не хотелось, все это ошибка, простите, мне правда жаль, простите меня, — и Ютта слышала, как они в ужасе попадают в неопрятный плен прощенья, слышала, как голоса покаянно свертываются. Настоятельница вычеркивала каждое имя — в тот вечер — из человечьего списка. Что это было? Да, она осуждала героев на ди Хельденштрассе, были они прощены, благословлены и выставлены напоказ. Воскресные туфли ради прогулки по этой улице она б надевать не стала. Но не могла она видеть Настоятельницу, просто не могла, и наверняка серые пучины преисподней утопят ее за это вероломство, за этот страх.
Тени были холодны, руки у нее онемели и ничего не чувствовали. Обер-лейтенант, теплый и неугомонный, скидывал покрывала, думал о шелковых волосах и пламенных взглядах.
Вдруг свет исчез скорее, чем луну могло укрыть тучами, — и в дверях встал темный ангел, отсекши свечной свет из наружного мира. Воды расступились у ног девушки, Настоятельница распахнула теплое сердце, готовая принять останки другого смертного. В горле перехватило, потянуло, и в тот миг Ютта услышала, как зовет Генерал, зовет из громадной пиршественной залы: «Где вокзал, вокзал?» — и смеется при этом.
— Дитя, — женщина оставалась в дверях, полу-в-коридоре, полу-внутри, — готова ль ты раскрыть сердце свое Небесному Отцу? Готова ли себе обеспечить безопасное бегство из пропасти вековечного дня и усталости? Теперь время покаяться. — Голос у Настоятельницы был громок, всегда звучал одинаково, со здоровыми говорила она или с больными, вечно ясен и резок. — Ныне пора отринуть нечестивого мужчину души твоей, ты можешь теперь прийти ко мне в объятья. — Она несгибаемо оставалась загораживать свет. — Дитя, приготовило ль ты свою исповедь?
Уж точно, живи она — в конце концов оказалась бы гражданской служащей, доверенной и принужденной записывать, терпеливо, Настоятельницыны документы порицанья. Подмышкою ощутила она маленькое, холодное биенье.
— Нет. — Она не думала, но ответила онемело, со смертного одра. — Нет. Не в чем мне исповедоваться, совершенно не в чем, ничего нет. — Она пререкалась с Гертой, велела братьям оставить ее в покое, ибо замерзла и устала. — Нечего мне вам сказать, Настоятельница, — и, разжавши хватку, соскользнула с топчана — грубой, черной, обесцененною кучей.
Обер-лейтенант, встревоженный голосами, натянул брюки и сердито потрусил наверх. Пора такому положить конец.
Эрни теперь был так мал — беспомощно подпертый в постели, от лихорадки и озноба лицо у него становилось то комичным, а то жестоким и прямо-таки святым. Он был куклою о двух масках, и Стелле, усталой, выпадало их менять по его мановенью. Стал он так же докучлив и стар, как все нездоровые люди, но любил — в мучительные незрелищные последние мгновенья своей жизни — глотать густое лекарство и корчить огорченные рожи. Стелла слышала от караульного, кто по-прежнему стоял у дверей Генералова пустого поместья, что болезнь расползлась по всему городу. Тот передавал ей слухи о смертях, о повсеместной проституции и о скорой победе. «Хотя бы, — думала она, — милый Эрнст не единственный». Саквояжи еще не разобрали, и они лежали скрюченно, неуверенно в изножье кровати. «Похоже, — думала Стелла, — что у него зубы болят», — и впрямь, щеки у больного раздуло и они воспалились по бокам его худого белого лица. Воротник шинели укутывал ему горло — лучше было сразу уложить его в постель, пусть и полностью одетого. Куда б ни перемещалась Стелла, он все еще звал, и, хотя лицо он отвернул прочь, голос — в глубинах груди его, она чувствовала, будто Эрнст за нее цепляется последним своим дыханьем благодати. У нее даже не было времени помыться, окна до сих пор оставались заложенными досками, мебель, кроме той кучи, на которой он лежал, стояла по-прежнему в полуподвале. Впервые с любви ее на горё начала она осознавать, что он — фехтовальщик в облаках, пронзенный наконец-то микроскопическим гриппом. Комната была темна и душна, как все комнаты больных, но от вечернего озноба и нестареющей круглогодичной сырости она скорее напоминала подвальный лазарет. Тая дыханье, нагибалась она над отвращенным лицом, подтягивала его в нужное положение, вталкивала облепленную сахаром ложку меж губ и выпрямлялась с долгим вздохом.