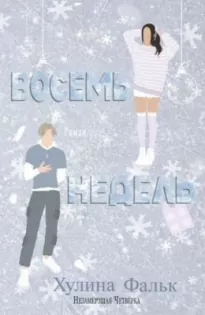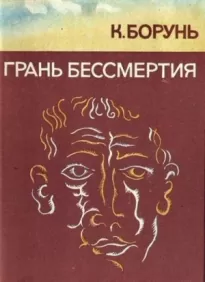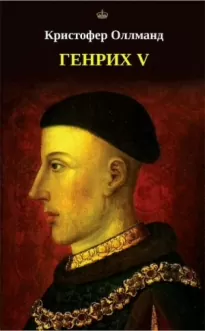Цареубийство 11 марта 1801 года

- Автор: Август Коцебу
- Жанр: Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 1996
Читать книгу "Цареубийство 11 марта 1801 года"
(Vorbericht)
В настоящее время благоразумие не позволяет предавать печати эти листки. Я их пишу для потомства и полагаю, что труд мой не будет совершенно бесполезен. Я хочу и могу сказать правду, потому что имел полную возможность её разузнать. Чтобы внушить читателю доверие к моим словам, мне стоит только познакомить его с тем положением, которое я имел при Павле.
Император поручил мне описать во всей подробности Михайловский дворец, этот чрезмерно дорогой памятник его причудливого вкуса и боязливого нрава. Вследствие чего дворец был открыт для меня во всякое время, а в отсутствие государя мне разрешено было проникать даже во внутренние его покои. Таким образом я был знаком во дворце с каждым, кто руководил или служил, приказывал или повиновался; значение же моё не было так важно, чтобы могло внушить осторожность или недоверие. Многое я слышал, а кое-что и видел.
Моим начальником по должности был обер-гофмейстер Нарышкин[137], один из любимцев императора, человек весёлый, легкомысленный, охотно и часто в тот же час рассказывавший то, что государь делал или говорил. Он имел помещение во дворце, и как тут, так и в собственном его доме, среди его семейства, я имел к нему беспрепятственный доступ.
Графа Палена[138], бывшего душой переворота, я знал ещё за многие годы до того в Ревеле, потом в Риге, когда он там был губернатором, наконец в Петербурге на высшей ступени его счастья. С женой его я находился в некоторых литературных отношениях. Через её руки многие из моих драматических произведений проходили в рукописи к великой княгине Елизавете Алексеевне, изъявившей желание их читать. Однако, для получения верных сведений с этой стороны, всего важнее была для меня дружба моя с колл. сов. Беком[139], который был наш общий соотечественник и притом во многих делах правая рука графа.
Другой приятель, через которого я узнавал некоторые из самых интимных обстоятельств женского круга императорской фамилии, был колл. сов. Шторх[140], известный автор многих уважаемых статистических сочинений. Он был учителем молодых великих княжон, пользовался их доверием и, что было весьма важно, дружбой обер-гофмейстерины графини Ливен[141].
Князю Зубову[142] сделался я известен, ещё когда он был фаворитом императрицы Екатерины. Он оказывал мне некоторое благоволение, и нередко случалось мне в его словах подметить интересные намёки. То же позволяю себе сказать и о тайном советнике Николаи[143], этом тонком мыслителе, старом государственном человеке и доверенном лице при императрице-матери.
Многими любопытными сведениями обязан я ст. сов. Гриве, англичанину, бывшему первым лейб-медиком императора, равно как и статскому советнику Сутгофу[144], акушеру великой княгини Елизаветы Алексеевны, который по своему положению и связям часто имел возможность отличать истину от ложных слухов.
Было бы слишком долго перечислять всех офицеров, полицейских и иных чиновников, вообще всех тех, которых я расспрашивал и допытывал относительно отдельных случаев, о коих они могли или должны были иметь сведения. Могу сказать с уверенностью, что хотя и было в Петербурге ещё несколько людей, стоявших выше меня по своему положению и таланту (как, например, Штрох), но, конечно, ни один из них не превзошёл меня в стремлении к истине, к деятельности и усилиях её узнать. Усилия эти были необходимы, потому что никогда не видел я столь явного отсутствия исторической истины. Из тысячи слухов, которые в то время ходили, многие были в прямом противоречии между собой; даже люди, которые лично присутствовали при том или другом эпизоде, рассказывали его различно. Поэтому легко вообразить, какого труда мне иногда стоило, чтобы составить себе совершенно верное понятие.
Тут, к сожалению, рождается вопрос: если даже современник, свидетель и очевидец происшествия, знакомый со всеми действующими лицами, должен на первых порах употреблять такие, нередко тщетные старания, чтобы напасть на след истины, то какую же веру потомство может придавать историкам, которые удалены были от места и времени происшествия хотя бы на несколько миль или лет? И должно ли удивляться, если и в этих листках, несмотря на затруднений, которые были побеждены, всё-таки там или сям вкралась какая-нибудь неточность?
Император Павел имел искреннее и твёрдое желание делать добро. Всё, что было несправедливого или казалось ему таковым, возмущало его душу, а сознание власти часто побуждало его пренебрегать всякими замедляющими расследованиями; но цель его была постоянно чистая; намеренно он творил одно только добро. Собственную свою несправедливость сознавал он охотно. Его гордость тогда смирялась, и, чтобы загладить свою вину, он расточал и золото и ласки. Конечно, слишком часто забывал он, что поспешность государей причиняет глубокие раны, которые не всегда в их власти излечить. Но, по крайней мере, сам он не был спокоен, пока собственное его сердце и дружественная благодарность обиженного не убеждали его, что всё забыто.
Перед ним, как перед добрейшим государем, бедняк и богач, вельможа и крестьянин, все были равны. Горе сильному, который с высокомерием притеснял убогого! Дорога к императору была открыта каждому; звание его любимца никого перед ним не защищало.
Наружность его можно назвать безобразной, а в гневе черты его лица возбуждали даже отвращение. Но когда сердечная благосклонность освещала его лицо, тогда он делался невыразимо привлекательным: невольно охватывало доверие к нему, и нельзя было не любить его.
Он охотно отдавался мелким человеческим чувствам. Его часто изображали тираном своего семейства, потому что, как обыкновенно бывает с людьми вспыльчивыми, он в порыве гнева не останавливался ни перед какими выражениями и не обращал внимания на присутствие посторонних, что давал повод к ложным суждениям о его семейных отношениях. Долгая и глубокая скорбь благородной императрицы после его смерти доказала, что подобные припадки вспыльчивости нисколько не уменьшили в ней заслуженной им любви.
Мелкие черты из его частной, самой интимной жизни, черты, важные для наблюдателя, изучающего людей, — доказывают, что его жена и дети постоянно сохраняли прежние права на его сердце. Виолье[145], честный человек и доверенный чиновник при императоре, был однажды вечером в её комнатах, когда Павел вошёл и ещё в дверях сказал: «Я что-то несу тебе, мой ангел, что должно доставить тебе большое удовольствие». — «Что бы то ни было, — отвечала императрица, — я в том заранее уверена». Виолье удалился, но дверь осталась непритворённой, и он увидел, как Павел принёс своей супруге чулки, которые были связаны в заведении для девиц, состоявшем под покровительством императрицы[146]. Потом государь поочерёдно взял на руки меньших своих детей и стал с ними играть. Это не ускользнёт от наблюдателя. Император, оказывающий своей супруге столь нежное внимание, что среди вихря дел и развлечений не пренебрегает принести ей пару чулок, потому что тем надеется доставить ей удовольствие, такой император наверное не семейный тиран! Каким же образом случалось, что его действия были нередко в противоречии с его сердцем? Почему столь многим приходилось по справедливости сетовать на него?
По-видимому, две причины особенно возмутили первоначально чистый источник: обращение его матери с ним и ужасные происшествия французской революции.
Известно, что Екатерина II не любила своего сына и при всём её величии во многих отношениях была не в состоянии скрыть этого пятна[147]. При ней великий князь, наследник престола, вовсе не имел значения. Он видел себя поставленным ниже господствовавших фаворитов, которые часто давали ему чувствовать своё дерзкое высокомерие. Достаточно было быть его любимцем, чтобы испытывать при дворе холодное и невнимательное обращение. Он это знал и глубоко чувствовал. Вот тому пример.
Когда престарелый граф Панин[148], руководитель его юности, лежал на смертном одре, великий князь, имевший к нему сыновнее почтение, не покидал его постели, закрыл ему глаза и горько плакал. В числе окружавших графа находился г-н фон Алопеус[149] старший, который впоследствии был русским посланником при английском и прусском дворах и от которого я слышал передаваемый мной рассказ. Граф Панин был его благодетелем, и потому глубокая горесть овладела им при этой смерти; он стоял у окна и плакал. Великий князь, заметив это, быстро подошёл к нему, пожал ему руки и сказал: «Сегодняшнего дня я вам не забуду». Затем Алопеус был назначен директором канцелярии графа Остермана и долго спустя посланником в Эйтине[150]. Когда он оставлял Петербург, он пожелал иметь прощальную аудиенцию и у великого князя. Павел приказал сказать ему, что он может приехать к нему, но втайне (heimlich), через заднюю дверь. Он принял его в своём кабинете и снова уверял в своём благоволении, причём не только объявил ему, что в настоящее время ничего не может сделать для него, но даже предостерегал его не оглашать дружественных отношений, в которых он к нему находился, потому что это могло ему лишь повредить. Сын, который постоянно оказывал своей матери столько покорности, что неоднократно с негодованием отвергал предложения вступить на её престол, несмотря на то, что всё было к тому подготовлено, — должен был тем не менее питать оскорбительное для себя убеждение, что простого благоволения с его стороны было достаточно, чтобы повредить! Какая горечь должна была отравить его сердце!
Отсюда родилась в нём справедливая ненависть ко всему окружавшему его мать; отсюда образовалась черта характера, которая в его царствование причинила, может быть, наиболее несчастий: постоянное опасение, что не оказывают ему должного почтения. До самого зрелого возраста он был приучен к тому, что на него не обращали никакого внимания, и что даже осмеивали всякий знак оказанного ему почтения; он не мог отрешиться от мысли, что и теперь достоинство его недостаточно уважаемо; всякое невольное или даже мнимое оскорбление его достоинства снова напоминало ему его прежнее положение; с этим воспоминанием возвращались и прежние ненавистные ему ощущения, но уже с сознанием, что отныне в его власти не терпеть прежнего обращения, и таким образом являлись тысячи поспешных, необдуманных, необузданных поступков, которые казались ему лишь восстановлением его нарушенных прав. Екатерина II была велика и добра; но монарх ничего не сделал для потомства, если отравил сердце своего преемника. Многие, скорбевшие о Павле, не знали, что, в сущности, они обвиняли превозносимую ими Екатерину.
Великий князь являлся при дворе только на куртагах; на малые собрания в Эрмитаже его не приглашали: мать удаляла сына, когда хотела предаваться непринуждённой весёлости. Он не имел голоса в воспитании своих детей, ни даже в предположенной помолвке своей дочери с королём шведским. Придворные фавориты оскорбляли его в его родительских правах, так как им приписывал он, и часто не без основания, то, что делала его мать. Можно ли порицать его за это душевное настроение? Оно-то с самого начала внушило ему те странные меры, которые в его понятии должны были поддержать остававшееся за ним ничтожное значение. Он жил обыкновенно в Гатчине, своём увеселительном замке. Там, по крайней мере, он хотел быть господином и был таковым. Того, кто ему не нравился, он удалял от своего маленького двора, причём случалось, что он приказывал посадить его ночью в кибитку, перевезти через близкую границу и высадить на большой дороге, откуда изгнанник уже должен был сам добраться до первого встречного дома.