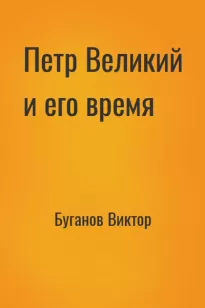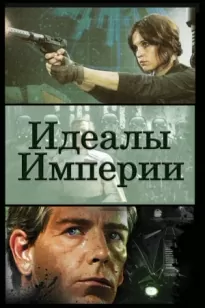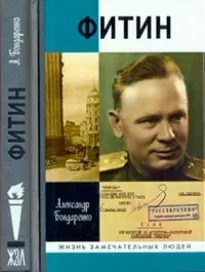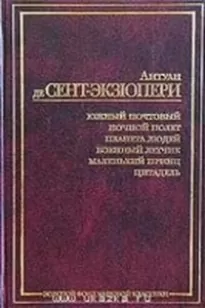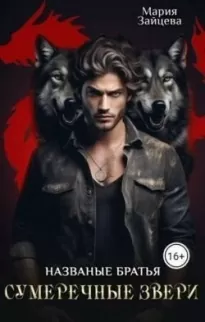Суд в Нюрнберге. Советский Cоюз и Международный военный трибунал
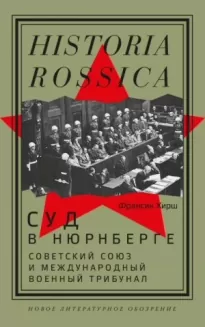
- Автор: Франсин Хирш
- Жанр: Документальная литература / Историческая проза / Юриспруденция / Военная проза
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Суд в Нюрнберге. Советский Cоюз и Международный военный трибунал"
* * *
С точки зрения Москвы советское обвинение продвигалось хорошо. Статьи в западных газетах хвалили советские выступления как «исключительно хорошо организованные» и утверждали, что Россия «прислала в суд своих самых умелых людей»[822]. Судя по письмам в адрес Руденко, тщательно изучавшимся советскими руководителями, вступительная речь советского обвинителя вызвала особенно сильную реакцию. Одна женщина из Крефельда, в британской зоне оккупации Германии, поблагодарила Руденко за правду об ужасах нацизма и выразила разочарование медленными темпами денацификации в ее городе. «Когда следишь по радио или по газетам за тем, что Вы и Ваши соотечественники предъявляют Трибуналу, тогда почти совсем лишаешься мужества продолжать жить как немец, – писала она. – Виновные должны быть уничтожены». Советские женщины просили Руденко помочь найти сведения об их сыновьях, не вернувшихся с войны. Одна женщина с Украины выражала веру в то, что человек вроде Руденко – «Вы советский человек, а все мы, советские люди, чуткие, отзывчивые», – близко знакомый с доказательствами вины немецких военных преступников, поймет горе матери и окажет помощь[823].
Один из советских чиновников в Москве выказал беспокойство в связи с советскими выступлениями. Это был Андрей Смирнов, специалист по Германии в НКИД. 14 февраля он пожаловался Молотову, что советские обвинители слишком сосредоточились на немецкой агрессии против Советского Союза. Он указал на то, что Руденко изобразил захват нацистами Европы лишь как подготовку к «главному наступлению» против Советского Союза; Покровский и Зоря держались той же линии, описывая нападение Германии на Чехословакию, Польшу и Югославию как шаги на пути к началу операции «Барбаросса». Смирнов добавил, что даже в использовании цитат из «Майн кампф» советские обвинители слишком уж подчеркивали стремление нацистов приобрести «жизненное пространство» на Востоке. Из этого всего можно было сделать вывод, что Германия не стремилась к более важной цели – мировому господству. Он предложил советскому обвинению держаться ближе к тому нарративу о войне, который представили западные обвинители[824]. Это позволило бы уменьшить уязвимость Советского Союза перед сепаратными нападками со стороны защиты.
Смирнов со своей стороны занимался в Москве укреплением советских позиций, негласно сотрудничая со Смершем и НКВД в деле подготовки группы советских свидетелей к поездке в Нюрнберг. Все они были жертвами нацистских преступлений. 16 февраля он известил советские власти в Берлине, что в течение двух дней приедут десять свидетелей[825]. Трое из них пережили блокаду Ленинграда и могли дать показания об уничтожении немцами памятников культуры: академик из Армении и директор Государственного Эрмитажа Иосиф Орбели, специалист по древнерусскому искусству профессор Юрий Дмитриев и священник Русской православной церкви, архидиакон из Ленинграда Николай Ломакин. Эти люди также тесно сотрудничали с Чрезвычайной государственной комиссией в деле сбора доказательств немецких военных преступлений[826]. Еще два свидетеля, Станислав Тарковский и Евгений Кивелиша, могли дать показания о жестоком обращении с советскими военнопленными. Остальные четыре свидетеля были отобраны для дачи показаний о зверствах, совершенных в отношении мирных граждан. Украинка Любовь Сопильник была заключенной в Аушвице. Евгения Панасюк, выжившая в Майданеке, засвидетельствовала массовое убийство детей из белорусского детского дома. Давид Будник, еврей из Киева, сбежал из Бабьего Яра – оврага на окраине города, где совершалось множество убийств. Сорокасемилетний крестьянин Яков Григорьев был свидетелем уничтожения своей деревни около Пскова на западе России[827].
Последний из отобранных советских свидетелей, еврейский поэт Абрам Суцкевер, был поздно включен в эту группу и не фигурировал в ранних списках. Он и его жена Фрейдке находились в вильнюсском гетто с сентября 1941 по сентябрь 1943 года, когда сбежали оттуда по канализационным путям и вступили в партизанский отряд в лесах близ озера Нарочь в северо-западной Белоруссии. Перед побегом из гетто Суцкевер контрабандой передал на волю несколько своих стихотворений, которые дошли до Еврейского антифашистского комитета в Москве. Илья Эренбург (член этого комитета) счел Суцкевера идеальным «выжившим свидетелем» – и в марте 1944 года по приказу советских руководителей Суцкевера и его жену самолетом вывезли в Москву с оккупированной немцами территории. Вскоре после спасения супругов Эренбург напечатал в «Правде» очерк о Суцкевере и его партизанской деятельности; он также опубликовал одно из стихотворений Суцкевера «Кол Нидре» о еврейском отце, который убил своего сына, чтобы спасти его от пыток в руках нацистов[828].
Ил. 30. Фрейдке и Абрам Суцкевер в Москве вскоре после спасения. Март 1944 года. Источник: Фотоархив музея «Яд Вашем», Иерусалим, 20174/95
Суцкевер совместно с Эренбургом и остальными членами Еврейского антифашистского комитета участвовал в подготовке документов для «Черной книги» – большого сборника свидетельств немецких зверств в отношении евреев на оккупированной территории Советского Союза. Советские руководители предполагали использовать «Черную книгу» (еще не опубликованную) как доказательство в Нюрнберге. Но после того как французы вызвали свидетелями выживших узников концлагерей, они решили послать самого Суцкевера и вызвали его из Вильнюса в Москву[829]. НКВД утвердил список из первых десяти советских свидетелей еще в ноябре, но допросил Суцкевера только 17 февраля – за день до отъезда этой группы из Москвы в Нюрнберг[830]. Вечером перед отъездом Суцкевер купил новый костюм, а затем написал в дневнике, что надеется дать показания на идише, «на языке народа, который обвиняемые пытались истребить»[831].
Советским свидетелям было нелегко добраться до Нюрнберга. Их самолет вылетел согласно плану 18 февраля, но сел в Минске из-за плохой погоды. Кроме того, самолет не отапливался, и Панасюк заболела[832]. Суцкевер в дневнике описал остановку в Минске как приятную передышку, во время которой он лучше познакомился с попутчиками. Ему понравилось, как Орбели, пожилой джентльмен с густой седой бородой, за ужином поднял бокал «за сосуществование всех народов с еврейским народом». Ломакин, напротив, показался ему похотливым пьяницей и хамом, будто прямиком из рассказов Николая Гоголя[833]. Погода не улучшалась. 19 февраля Руденко сказал судьям, что все еще не может предоставить список советских свидетелей, потому что есть трудности с их доставкой в Нюрнберг[834].
Советское обвинение продолжило без своих свидетелей. 18 и 19 февраля Лев Смирнов предъявил доказательства немецких преступлений против мирных жителей, рассказав об уничтожении чехословацкой деревни Лидице во всем его ужасе. 10 июня 1942 года все мужчины и мальчики-подростки из этой деревни были расстреляны. «Убийства продолжались с утра до четырех часов дня. Затем палачи сфотографировались на месте казни у трупов». Деревню сожгли дотла, а женщин разделили с детьми и отправили в разные концлагеря. Затем Смирнов напомнил суду, что Лидице не было исключением. Подобные садистские расправы повторялись в деревнях по всему Советскому Союзу, одна резня жесточе другой. Мирных жителей обычно сжигали заживо или убивали еще более варварскими способами. Смирнов уделил особое внимание убийствам детей, зачитав показания, собранные Чрезвычайной государственной комиссией. Тысячи детей замучили до смерти, удушили в газовых фургонах, расстреляли, утопили и сожгли заживо. Он зачитал показания двух советских граждан о том, как немцы бросали детей в разрытые ямы в Бабьем Яру и сжигали вместе с ранеными или мертвыми родителями: «Было заметно, как слой земли шевелился от движения еще живых людей». Смирнов объяснил: немецкие руководители специально старались убивать детей, потому что понимали, что «эта форма устрашения будет особенно ужасна для оставшихся в живых»[835].
Затем Смирнов рассказал, что в предвидении близкого разгрома немецкие оккупационные войска пытались скрыть свои преступления, принуждая узников концлагерей зарывать и сжигать трупы. В Бабьем Яру заключенные складывали трупы и дрова во много слоев, заливали сверху нефтью и поджигали этот штабель. За шесть недель таким образом уничтожили около 70 тысяч трупов. Когда сжигать тела не было возможности, немецкие войска маскировали массовые захоронения. Описывая сокрытие мест казней около Львова, Смирнов напомнил о Катыни: он сослался на доклад Чрезвычайной государственной комиссии, где утверждалось, что немцы использовали «те же методы сокрытия своих преступлений» в Лисеницком лесу подо Львовом, «что и в Катынском лесу»[836].
Хотя немецкие войска пытались скрыть зверства, отдельные немецкие солдаты фотографировали ужасные сцены и сохраняли снимки на память. Зал суда застыл в молчании, когда Смирнов спроецировал на экран некоторые эти снимки. На одной фотографии советских детей расстреливали в затылок; на второй голая женщина бежала мимо немецких охранников; на других тела висели на виселицах. На некоторых снимках немецкие солдаты смеялись над жертвами. Корреспондент «Нью-Йорк таймс» писал, что Риббентроп отвернулся, когда «на экране появилась фотография с кучей человеческих голов и осклабившимися палачами»[837].
Последним доказательством, предъявленным Смирновым, был фильм о зверствах, смонтированный студией Кармена в Москве, – «Кинодокументы о зверствах немецко-фашистских захватчиков». Советские свидетели все еще не прибыли в Нюрнберг. Но когда освещение в зале суда погасло, Полевой и другие корреспонденты увидели, как мертвецы, давно истлевшие в прах, занимают места на скамье свидетелей. Камера провела зрителей по улице в Ростове, заваленной трупами; показала крупный план мертвого ребенка на снегу. Переместилась на городскую площадь, где трупы были уложены «аккуратненьким штабелем, как дрова». Когда камера приблизилась, стало ясно, что это тела казненных солдат. Затем фильм отправил зрителей на запад, через Латвию, Эстонию и Литву в Польшу, в подвал Данцигского технологического института. Рассказчик объяснил, что там из человеческих трупов варили мыло. Камера показала груду обезглавленных тел, сложенных возле больших чанов; отрубленные головы валялись рядом в корзине. «Хочется зажмурить глаза и бежать, – описывал Полевой свое впечатление от той сцены. – Нет-нет, надо пройти через все круги этого ада, заглянуть на самое дно нацизма». Когда фильм закончился и зал снова осветился, люди сидели онемев, пытаясь осознать, что они только что увидели[838].
Кармен позже отметил, что в американском фильме о нацистских концлагерях не показали таких «ужасов». Многие жуткие сцены из советского документального фильма не показывались и в советской кинохронике времен войны. «Это отрезанные головы, отрезанные руки, это страшные лагеря, в которых мы, советские кинооператоры, появлялись с первыми отрядами… Это голые скелеты, это убитые дети…» Кармен писал, что не было необходимости показывать советским людям такие сцены. Но этот фильм был другим, потому что это был «документ суда». Кармен остался в зале на время показа фильма и изучал реакции подсудимых. В итоге он был удовлетворен. Судя по выражениям лиц, подсудимые наконец осознали, в чем их обвиняют, и «поняли… что им не быть живыми»[839]. Тюремный психолог Гилберт тоже считал, что фильм попал в цель даже точнее, чем тот, что показали американцы[840]. По словам корреспондента «Нью-Йорк таймс» Дрю Миддлтона, фильм был настолько ужасен, что «закаленные войной армейские караульные разинули рты и шепотом ругались». Он решил, что теперь покончено со всеми домыслами о том, что идущие с востока рассказы о немецкой оккупации преувеличенны[841].