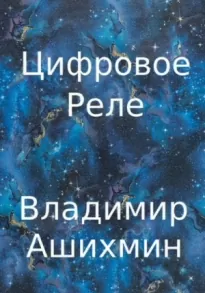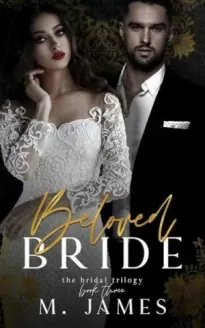В шаге от вечности
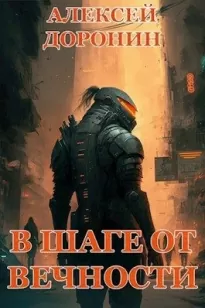
- Автор: Алексей Доронин
- Жанр: Фантастика
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "В шаге от вечности"
Ну, предположим, всемирной славы и у него самого не было даже сейчас. В мире постоянно возникали новые инфоповоды, мемы и новые кумиры. Для молодежи он сам, Виктор Григорьев, был почти динозавром. Но в стране его знали многие. И последние тридцать лет у него не было проблем с деньгами. Его похороны собрали бы не меньше народу, чем погребение этого самодовольного индюка в гробу (хоть и прошли бы не в таком пафосном месте). Индюка? Нет, светоча культуры. Патриарха отечественной сцены второй половины века. Михаила Золотникова.
Толпа все прибывала. Приезжали электромобили новейших моделей, с обтекаемыми, как пули, корпусами, прилетело несколько бесшумных коптеров, для которых вдоль стены имелись обозначенные буквой «H» площадки.
Беглым взглядом Григорьев отметил несколько сотен айдентов синего цвета — платных, в отличие от бесплатных белых, какой был у него. Потому что его, как сказали бы предки, «душила жаба», и тратить кровные глобо на бесполезный функционал и «понты» он не хотел (это слово мало кто из молодых бы поняли, как и более новое слово «хайп»).
Тут были ВИПы. Не нищая богема типа непризнанных гениев визуализации и 3d-моделинга, а эстеблишмент и «денежные мешки». Столпы и титаны, держащие небосвод. Все в костюмах ценой в мобиль эконом-класса. У некоторых даже часы на руках. Хотя точное время можно узнать за долю секунды, просто скосив глаз в сторону! А то и просто подумав об этом.
С ухмылкой Григорьев пробежал глазами их профили, где была предназначенная для посторонних информация. Там были регалии, проекты, в которых они участвовали и награды. Длинны-длинные списки. А вот контактных данных не было — их оставляют только дураки, коммивояжеры да жрицы и жрецы продажной любви. ВИПы имели все основания опасаться маньяков и террористов.
Или просто обычных граждан… Не было в профиле и годового дохода. Иначе многие бы на улицах лопнули от зависти.
Григорьев был не в настроении, поэтому закрыл свой собственный айдент от всех, кроме экстренных служб. Теперь он стал невидим, ему нельзя отправить сообщение, нельзя прочитать его статус. Это было разрешено. Давать о себе информацию — право, а не обязанность. Хотя многие службы и органы считали иначе.
С теми, кого он знал лично, он поздоровался. Пожал руку нескольким таким же старикам, кого-то даже в ответ приобнял. Кивнул одному коллеге-скриптору (тот предпочитал звать себя сценаристом) в похожем на фрак пиджаке и с гривой седых волос, которого держала под руку женщина втрое его моложе. А одному композитору даже сказал пару слов.
К мертвецу подошел всего на секунду. Увидел, что тому очень старательно придали сходство с живым человеком. Даже омолодили как-то. Похоже, какие-то инъекции. Теперь в гробу он походил на себя сорокалетнего. В реальности… в последние годы он был куда более помятым, красноглазым и обрюзгшим.
Покойный был чисто выбрит и с непривычно непокрытой головой. А на портрете в траурной рамке, стоящем в изголовье, который потом установят на памятник — он был в своей любимой беретке, в которой появлялся даже на светских раутах, и со щегольской трехдневной хипстерской щетиной.
«Для молодежи хипстеры такая же древность, как хиппи», — подумал старик.
На остальных ему было плевать еще в большей степени. Он уже вышел из возраста, когда за социальный капитал трясутся. Да его капитал и так был выше некуда. Хоть формальный, хоть неформальный. Вот только с собой его не унесешь.
Похороны проходили по высшему разряду. Гроб принесли люди в черных костюмах — русский похоронный бизнес автоматизация коснулась, но «черный гроб на колесиках» — или лафет на автоматической платформе, оставался заокеанской экзотикой, которая считалась нарушающей ритуал. От покойного можно было ожидать любых чудачеств, вплоть до носильщиков-андроидов, но, видимо, детали погребения определили родственники. Почетного караула и салюта не было. К людям в форме мертвец относился плохо.
Зато был пастор-лютеранин. Покойный за несколько лет до смерти вышел из Московского прихода экуменистов, но в православие не вернулся, а перешел в религию своих далеких предков-немцев. Видимо, хотел перед смертью показать последний кукиш и без того переживающей не лучшие времена церкви, которую среди интеллектуалов не пинал только ленивый. Хотя, если подумать, чем она хуже католичества? Такой же театр в стиле ретро для тех, кто верит, что бессмертие можно получить в обмен на соблюдение правил.
В ушах зудел хорошо поставленный голос распорядителя похорон. Из этого хлыща получился бы хороший актер, и, похоже, актер — единственная профессия, которой сокращения не угрожали. Ведь не в любом контексте допустима голограмма или виртуал.
— Значительный вклад, внесенный покойным в дело изображения реальной, без прикрас, жизни страны рубежа веков… — продолжал вещать оперный баритон, усиленный, конечно, специальной стереосистемой.
Григорьев вытерпел эту речь ровно пять минут и почувствовал тошноту. Но не только от словесного сиропа. Голова заболела — видимо, отвык воспринимать так много устной речи сразу. Слишком долго жил один и общался с миром только через «провод».
В этом он не очень отличался от молодежи. Те тоже символами и пиктограммами общались едва ли не больше, чем словами, и из своей комнаты иногда днями не выходили.
Но привычки коммуникации отличались. Старики, дети далеких 90-х и еще более далеких 80-х, «миллениалы», как их еще называли — отправляли сообщения, только когда собеседник был далеко. Будто у них по-прежнему был в руках мобильный или, прости господи, пейджер. Те же, кто родился уже в новом тысячелетии — часто обменивались «эсэмками»[iii], даже если адресат был в другом конце большой комнаты. Составить ее за несколько секунд из занесенных в шаблон быстрого доступа ста-двухсот основных понятий, эмотиков и пиктограмм им было проще, чем подойти.
Возможно, когда-нибудь устный язык станет лишь языком церемониальным и личным, интимным. А для остального будут сообщения. Хотя, как подозревал Григорьев, современные влюбленные могли пользоваться «эсэмками» даже на дистанции ноль сантиметров и меньше.
Еще ему казалось забавным созвучие — старики вроде него помнили старые SMS. Хотя эсэмки произошли не от них, а от сетевых мессенджеров. Просто провайдером этой услуги выступало Международное агентство по коммуникациям, и они были бесплатны. И доступны, как и Сеть, на каждом квадратном метре земной поверхности. И в большинстве подземных сооружений, включая популярные у туристов пещеры. Но, в отличие от Сети, где существовала символическая абонентская плата, услуга «быстрой связи» была бесплатной. А в некоторых странах даже обязательной (якобы для возможности вызова экстренных служб, если человек попадет в беду). Хотя сектанты постоянно судились с правительствами и не хотели подключаться. Формат не менялся последние двадцать, а может и тридцать лет. За это время частные протоколы связи скакнули настолько далеко, что уже далеко превышали человеческие потребности. Дальнейшее расширение ширины канала почти всем казалось бесполезной игрой в бирюльки. Как и рост производительности вычислителей. А эсэмки были удобны и привычны, хотя кто-то видел в этом наступление на права и приватность.
Пока существовали только «перчатки» первых моделей, скорость обмена информацией была не выше, чем у устной коммуникации, а даже ниже. И не каждый хотел шокировать ретроградов, подняв посреди улицы руку и начав шевелить пальцами. Но технология совершенствовалась, и «наглазники» — окулярные сенсоры — позволили не только видеть Д-реальность, но и взаимодействовать с ней и с Сетью через улавливание движения глазного яблока.
Хотя далеко не все еще этим пользовались. Сам он никак не мог привыкнуть.
В начале века подобные приборы для распознавания движения глаза использовались для коммуникации инвалидов. Но никто не думал, что эти приборы годятся и для другого. И что тренированный глаз может быть способен на такие же точные движения, как палец — на выхватывание из пространства объектов: букв, цифр и эмотиконов, на кликанье по гиперссылкам, пролистывание списков, рисование.
Потом ту же сетку — для косметических целей — стали наносить непосредственно на сетчатку, ведь не всем хотелось быть «очкариками».
Была сетка прошита и у него. Но он через нее только смотрел, а взаимодействовать с Д-реальностью предпочитал по старинке. Для тех, кто был более консервативен, существовал апгрейд «перчаток» под названием «кастет» (он был чем-то похож на последний по форме, но умещался в руке незаметно). Там тоже применялся датчик изгиба пальцев, но не требовалось делать «печатающие» движения, так как улавливались малейшие колебания.
И мир изменился. Улицы стали чуть тише, а информация начала передаваться от человека к человеку с большей скоростью и меньшими потерями. Городской шум уже не мешал обратиться напрямую к собеседнику на другой стороне проспекта. И стена дома не мешала. При этом разговор можно было сделать приватным или видимым только для тех, кто нужен.
Вот таким был мир, где он, Виктор Семенович Григорьев, автор множества игровых сюжетов, двухсот рассказов и трех романов, доживал свою долгую, хотя и не очень простую жизнь.
Пафос достиг крещендо, когда зачитали письмо от премьера. Вернее, зачитала голограмма оного, которая материализовалась на свободной от людей площадке, откуда торжественно взирала на собравшихся. Странно. Что помешало Толстяку приехать лично? Какой-то форс-мажор? Экстренное совещание?
«Надо узнать у сына, что там творится», — подумал Григорьев.
Тьфу. Виктор Семенович чуть не сплюнул. Уж он-то имел честь знать этого светоча лично, и мог бы многое порассказать. Хотя не стал бы этого делать. Плохим человеком покойный не был. Так… средней паршивости. Вокруг было полно людей куда гаже и бесталаннее, которые когда надо были демократами, когда надо — патриотами, и неизменно получали свой кусок, а при смене вектора всегда успевали, расталкивая идейных, пробиться первыми к кормушке. А покойный порой позволял себе высказывать и свои настоящие взгляды, даже ничего за это не получая. Все это так. Но Григорьев в силу своей профессии не любил, когда переигрывают. Поэтому ему не нравилось, когда из его сценариев делали фильмы с живыми актерами. Режиссеры и исполнители главных ролей выворачивали наизнанку любую его идею, поэтому он часто требовал убрать из титров свое имя. Цифровая анимация в вирках была честнее и выражала его мысли точнее.
Ну, кто в середине двадцать первого века придумал говорить языком Державина? Он скорее удавился бы, чем пропустил такое в свои творения. Разве что в пародии.
Скриптору вдруг стало не по себе. В этом месте пахло смертью. Нет, легкий ветерок приносил только запахи соснового леса, но на уровне образов Григорьев чувствовал смерть. Она пряталась за надгробиями, шумела в ветвях высаженных двадцать лет назад голубых елей. Таилась под землей.
Скорее сесть в арендованный «Форд-Фотон» и прочь отсюда, развалившись на заднем сиденье. Даже если бы было разрешено водить чужую машину самому, в таком состоянии он скорее доверился бы автопилоту, чем сел за руль. Если повезет, и не будет этих непонятно откуда взявшихся пробок, то через час он дома… а там выпить свои таблетки, рухнуть в кресло и